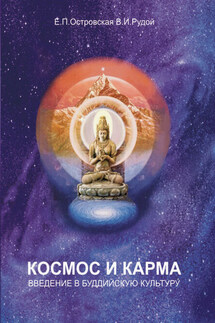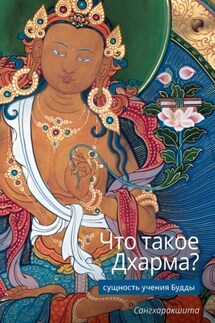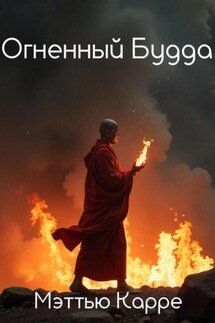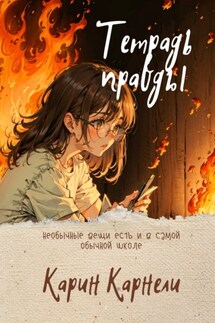Буддийские общины Санкт-Петербурга - страница 19
Указанные выше структурные единицы были сформулированы в виде соответствующих вопросов интервью и единиц анализа документов. Сопоставление полученной в результате информации позволило минимизировать ошибки, связанные с пребыванием в полевых условиях.
В некоторых случаях для контроля результатов, полученных при использовании различных методов, применялся метод триангуляции, для чего приглашались помощники из числа студентов и аспирантов факультета социологии и восточного факультета СПбГУ.
Глава I. Тибетский буддизм в изгнании, или Конструирование глобальной модели институционализации
В настоящей главе речь пойдет о социокультурных формах закрепления тех школ тибетского буддизма, к которым возводят себя исследуемые общины конвертитов. Представляется необходимым привести биографии некоторых учителей, к авторитету и жизнеописаниям которых апеллируют современные буддисты. Кроме того, отдельной темой главы станет рассмотрение буддизма тибетской диаспоры и той модели обращения европейцев в буддизм, которую создали ее религиозные лидеры.
До конца 1950-х годов XX века Тибет оставался страной, малодоступной для европейской цивилизации, полностью отделенной от экономического и политического влияния культуры Просвещения. Первые серьезные научные сведения о Тибете – ландшафте, народонаселении, социальном и политическом устройстве, религии – были получены только в начале XX века. Исследовательские данные добывались в основном усилиями российских востоковедов, полевые экспедиции которых тщательно планировались и финансировались Русским географическим обществом. Полученная информация предназначалась отнюдь не для широкого научного использования, а прежде всего для разработки этнополитических установок административной доктрины Российской империи в буддийских ее регионах – Бурятии, Калмыкии и Туве[21].
В число первых научных публикаций об этой стране, наряду с российскими, входят монографии английского ученого А. Уоделла, находившегося в составе британской военной экспедиции в Тибет 1904 года, и трехтомное издание исследований Ч. Белла, занимавшего в течение длительного времени пост английского официального представителя в Сиккиме и бывшего личным советником Далай-ламы XIII.
Научные сведения о Тибете в силу ряда причин оставались недоступными для широкой аудитории, познакомившейся впервые с этой страной благодаря сочинениям А. Девид-Неэль, Е. Блаватской, Н. Рериха. Вплоть до сегодняшнего дня Тибет представляется многим европейцам «таинственной страной снегов», население которой в прошлом составляли «мистики и маги». Активные антропологические, этнографические и социологические исследования тибетской культуры начались только в конце XX в. Стимулом к созданию тибетологии как отдельной отрасли востоковедения послужило включение этнорелигиозного меньшинства тибетцев в историко-культурную действительность Европы и Запада.
Другим не менее важным фактором активного интереса глобальной общественности к истории и культуре Тибета стало обращение в буддизм европейцев, носителей христианской культуры. В Европе (Германия, Франция, Англия, Польша, Скандинавия) начало 1980-х годов, а в России – начало 1990-х ознаменовалось активным распространением тибетского буддизма. Общины буддистов-европейцев, возникавшие по всему миру, создавались под непосредственным руководством тибетских монахов и наставников, проживающих в диаспорных расселениях в Индии и Непале. Модель европейского буддизма была сконструирована в контексте серьезных структурных изменений социально-политической и религиозной жизни тибетской диаспоры. Эти изменения затронули прежде всего структуру политической и религиозной власти.