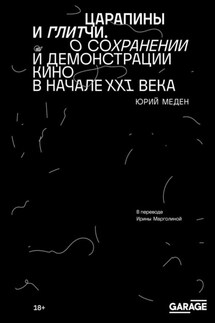Царапины и глитчи. О сохранении и демонстрации кино в начале XXI века - страница 7
Понятие нормы износа подразумевает, что мы уже приняли износ как неприятный побочный эффект в деле сохранения и демонстрации фильмов. Что, если вместо этого мы обсудим не норму износа, но нежелание принимать этот износ в качестве побочного эффекта, учитывая, что износ (т. е. изменения) – неминуемая константа, а неизменность – недостижимый идеал? В конце концов, история кино – это не история идеальных или хотя бы хороших кинопроекций. В большинстве своем это история царапин, разрывов, ожогов, нечетких изображений, задержек при смене бобин, пропущенных кадров, несовершенных кадров, абы каких скоростей проекции, не говоря уже о суматохе перед экраном: от разговоров и перепихонов до курения и чавканья.
При всем этом и за неимением лучшего варианта Керки Узаи совершенно прав: все же мы должны стремиться к невозможному, ведь именно оно нередко и придает смысл нашей жизни. Перефразируя кантовскую формулу «долженствования», определяющего «возможность», мы должны стремиться не потому, что можем, а потому, что думаем, что можем.
7
Фильм как объект во времени, или Ферментация фильма
До изобретения более сложных – и, следовательно, куда более хрупких и трудоемких – методов сохранения пищи, таких как пастеризация и охлаждение, ферментация была единственным методом сохранения мертвой органической материи на недели, месяцы, годы, десятилетия и даже века, при этом сама материя оставалась полезной, то есть съедобной. Археологические данные подтверждают, что люди сознательно ферментировали свою пищу еще со времен неолита, около 8500 лет назад. Помимо сохранения, метаболический процесс ферментации, запущенный и поддерживаемый активностью «дружелюбных» анаэробных микроорганизмов, меняет текстуру и вкус еды, в результате делая ее объективно более усвояемой и питательной и субъективно – более насыщенной вкусово.
Отдельные современные теории полагают, что не только человекообразные, случайно натолкнувшись на ферментацию, превратили эту технологию в неотъемлемую часть следов своей жизнедеятельности. Так, собаки и белки закапывают мясо и орехи и в качестве припасов на тяжелые времена, и для того, чтобы сделать припасы эти вкуснее, питательнее и устойчивее к нежелательному аэробному распаду.
Суть этого исторического урока чрезвычайно проста. Аналоговая пленка – это мертвая органическая материя. Время мертвой органической материи ограничено. Продлить его естественным образом можно только через изменения – это как с эволюцией, которая есть не что иное, как сохранение живой органической материи за счет постоянных изменений.
Итак, изменения оказываются ключевым словом, когда речь заходит о сохранении, и тем не менее они остаются злейшим врагом культуры сохранения и реставрации пленочного кино, которая обычно наряжает разлагающиеся трупы в толстые слои искусственного цифрового мейкапа, чтобы восстановить мифический оригинальный вид. На противоположной стороне подобного подхода к сохранению пленки – полное принятие концепта изменений и их последствий (принятие не из необходимости или безразличия, но намеренное), которое может привести к неожиданным результатам.
В 1983 году югославский экспериментальный кинорежиссер, оператор и культурный деятель Миодраг (Миша) Милошевич снял короткометражный фильм под названием Poslednji tango u Parizu («Последнее танго в Париже»). Он совершил простой акт реверсирования