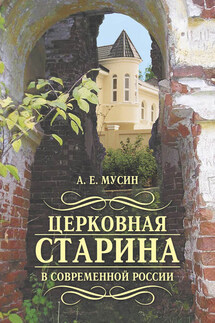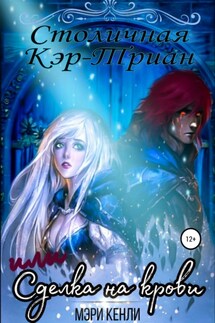Церковная старина в современной России - страница 14
Итак, единственное условие при распоряжении церковным имуществом – это его общественное служение, одобренное волей церковной общины, исходящей из осознания интересов христианской миссии, и авторизованное епископом. Естественно, что составленные в эпоху поздней античности и раннего Средневековья правила не предполагали существования в составе церковного имущества «объектов культурного наследия». Однако святоотеческое приложение канонических норм к современной ситуации в полной мере допускает возможность того, что общинные права пользования и распоряжения памятниками культуры, в том числе и богослужебного характера, могут быть ограничены. При этом может претерпеть эволюцию и функциональное использование богослужебных предметов – они могут быть изъяты из литургической практики в связи с общественной потребностью, «освящающей» их новое употребление уже в качестве музейного экспоната. В конце концов, сохранение культурного наследия служит к пользе Церкви. В то же время каждодневная и суетная эксплуатация реликвии под предлогом «удовлетворения религиозных потребностей» в целях обеспечения рентабельности «приходской экономики», ведущая к искажению и разрушению материального тела святыни, служит Церкви лишь во вред.
Хранение и экспонирование памятников церковной старины в государственных музеях оказывается формой христианского свидетельства, проповеди и популяризации церковной культуры. Единственно, что для этого нужно, – осознанный церковный выбор и партнерские отношения с обществом и государством, связанные с отсутствием принуждения по отношению к Церкви. В этих условиях формируется новое восприятие секуляризации, согласно которому она не приносит вреда церковной миссии, если ее последствия, пусть и вторичные по своему характеру, позитивны в широком смысле[9].
Такой подход сродни разделению «гробокопательства» на «простительное» и «непростительное», которое содержится в 7-м правиле свт. Григория Нисского и, по сути, в 10-м правиле свт. Василия Великого и в 43-м правиле патриарха Иоанна Постника. Раскапывающие могилы «для хищения», т. е. с целью личного обогащения, однозначно подпадают под осуждение. Однако тот, кто использует могильные камни «на нечто лучшее и общеполезнейшее», прощается. Как и в истории с «объектами культурного наследия», эти каноны не предполагают существования такой академической науки, как археология. Но их современное толкование однозначно оправдывает археолога, занимающегося изучением погребального обряда для «лучшего» понимания истории в «общеполезнейших» целях, и осуждает «черных археологов», работающих на рынок. Главное – цель и разборчивость в средствах ее достижения.
Ситуация, подобная той, что мы только что наблюдали в Византии, была характерна и для Древней Руси. Соборный строй здесь не прижился с самого начала. Однако это не исключало, а как раз предполагало активную роль как общинного, так и вотчинного права в церковной жизни, избрании духовенства и распоряжении церковным имуществом в X–XVIII вв. Существование вотчинных церквей хорошо прослеживается и на Руси. Летописи и акты X–XIV вв. упоминают представителей духовенства, более связанного с сильными мира сего – древнерусским княжьем и боярством, чем со своим епископом. Пресвитер упоминается при княгине Ольге в 957 г., «свой презвутер» был у князя Бориса в 1015 г., в белозерском походе Яна Вышатича в 1071 г. сопровождает «попин Янев», убитый волхвами. Совершенно уникально сообщение Новгородской летописи под 1136 г. о венчании князя Святослава Ольговича в Новгороде «своими попы», поскольку архиепископ Нифонт запретил городскому духовенству венчать князя.