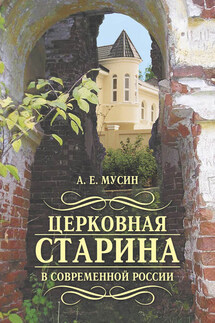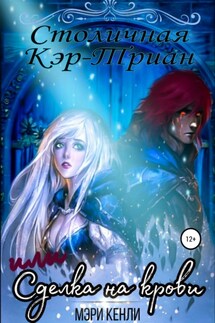Церковная старина в современной России - страница 5
Происходит то, что справедливо было названо вариантом «олигархической приватизации». Характерно, что даже в официальных документах речь идет не о реституции, но о целевой приватизации памятников культуры религиозного назначения религиозными организациями. В результате государственная собственность оказывается в корпоративном, а по сути – в частном владении руководителей этих корпораций. Характерно, что сами они, не производя никаких материальных расходов на подобное приобретение, обязаны щедротам верховной власти лишь подчеркнутой лояльностью. В результате происходящей приватизации памятников культуры общество лишается возможности узнать о собственном прошлом, поскольку теряет право использования памятников прошлого и возможность их самостоятельной интерпретации.
В цивилизованном обществе смена собственника или пользователя памятника культуры никак не должна повлиять ни на его судьбу, ни на его место в общественной жизни: это вопрос технический. Однако особенности современного существования РПЦ в России и менталитет, присущий подавляющему большинству ее клира и мирян, заставляют решать в первую очередь именно этот технический вопрос.
В условиях отсутствия диалога между Церковью и обществом, пренебрежения общественным мнением, правовыми и научными нормами в обращении с памятниками культуры со стороны большей части приходских и монастырских настоятелей и епархиальных архиереев и неспособности и нежелании государства наладить эффективный контроль над деятельностью собственника или пользователя памятника, что в свою очередь порождает вседозволенность, ситуация с культурным наследием начинает приобретать драматический характер.
Вопросы собственности или пользования ею оказываются лишь служебным инструментом для решения стоящей перед обществом задачи сбережения исторической памяти. На деле за проблемой памятников стоит проблема культурной и церковной традиции, проблема восприятия исторического прошлого в соответствии с теми его следами и останками, что сохранились до нашего времени. По сути позиция, оправдывающая разрушение и изменение церковной старины тем, что у современной Церкви сегодня другие вкусы и потребности, ничем не лучше агрессивного подхода бизнес-элиты и местных властей, обосновывающих разрушение исторических городов тем, что этим городам «надо развиваться». А ведь именно останки старины, называемые значимым для Церкви словом «реликвии», гарантируют нам правильность понимания истории, тогда как стремление осовременить памятник, приспособить к низменным вкусам и потребностям сегодняшнего дня, как и желание контролировать доступ к памятнику и свободу его понимания, закрывает для нас эту возможность. История начинает восприниматься по аналогии с современностью. Человек не чувствует разницы между настоящим и прошедшим, теряет ощущение особенностей исторического христианства по сравнению с синодально-советским периодом в истории Церкви.
Это не надуманная проблема, свойственная лишь тонким ценителям старины и интеллектуальной элите. Это проблема массового восприятия и, если угодно, вопрос церковной традиции и Священного Предания. В контексте известной антиномии Писания и Предания здесь уместно вспомнить Евангельскую историю о «Слове Божием» и «предании человеческом». В ней Христос предупреждает христиан об относительности всех исторических наслоений в Церкви по отношению к изначальному Евангельскому учению (Мф. 15:6; 7:8—13). Для этого в Церкви и остается Священное Писание, с помощью которого всегда можно установить, насколько современные предания отклонились от «единожды переданной» веры. В отношении памятников культуры происходит своеобразный сдвиг: сохранившееся в материальных останках Предание и становится тем «мерилом праведным», которое позволяет нам оценить содержание и значение современных церковных практик с точки зрения истории Церкви. Культурное наследие здесь становится «писанием» камней и красок, позволяющим по достоинству оценить предания современных «человеков». Попытка подчинить старину современности сродни стремлению лишить Церковь важного навигационного инструмента в ее плавании по житейскому морю. Профессиональный термин «приспособление», относящийся к объектам культурного наследия, приобретает в жизни современной Церкви зловещее звучание, отражая приспособление Предания к прихотям и похотям века сего.