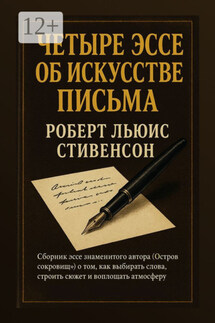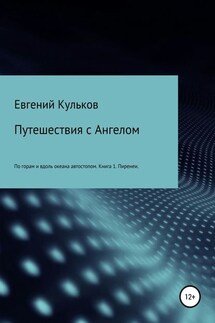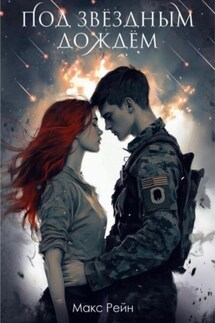Четыре эссе об искусстве письма - страница 2
Тут, однако, есть своя потеря. В стихе, даже при всей искусности, синтаксические фразы обычно «плавают» свободней, чем в прозе, где каждое слово занято до предела и фраза так чётко «защёлкивается», словно вставка в пазле. В прозе даже слух ощущает эту подвижную симметрию и радуется её ясному возвращению; а в стихах внимание уходит на ритм, и грамматическая завершённость, при всей важности, отходит на второй план. Попробуйте взять для сравнения два фрагмента у одного автора, способного работать в обеих манерах, скажем, у Шекспира: его чистую прозу – к примеру, первую же речь Орландо в «Как вам это понравится» – и рядом любой стих из той же пьесы или что-нибудь вроде монолога «Прощай, воинское дело» в «Отелло». В прозе обнаружится удивительная точность и выверенная сбалансированность каждого построения, не столь заметная в стихе. Это не значит, что проза превосходит поэзию. Просто одно царство меньше и беднее, но всё же отдельное и суверенное.
3. Ритм фразы
Немного раньше я упомянул, что каждая фраза должна быть «изящной». Но что значит «изящная фраза»? В литературе, как и в живописи, скульптуре или музыке, есть что-то общее: литература, будучи искусством представительным, склонна заимствовать у живописи и прочих сестёр образы, но технически, как временное искусство, она ближе всего к музыке. Каждая фраза в тексте, подобно фразе в музыкальном произведении, должна быть выстроена из длинных и коротких, ударных и безударных слогов так, чтобы ласкать наш внутренний слух. И единственный здесь истинный судья – ухо. Разум не выведет точных законов. Даже в стихах, где вроде бы действует система ударений, поддающаяся разбору, невозможно до конца объяснить тайну красоты строфы. Что уж говорить о прозе, где нет и этой строгой схемы?
О сканировании стихов писали и спорили много, и я, по счастью, кое-что почерпнул у моего друга Флиминга Дженкина. В школе нас учили, что героический (пятистопный ямб) состоит из пяти ямбических стоп, и мы вольно или невольно терзали такие строки механическим делением на слоги. Но на деле это правило «хромает», а наш пресловутый ямб не всегда проглядывает в действительности. Дженкин заметил, что строка, состоящая из 10 слогов, для «произнесения» разбивается не на пять, а на четыре смысловые группы (pause-groups). Выходит, помимо «официальной» стопы (ямб), есть ещё дополнительный ритмический узор. Получается, что стих можно «проскандировать» двояко, по меньшей мере. И именно эта двойственность ритма, если соблюдать мастерство, создаёт в хорошем стихотворении то богатство и очарование, которым беден «механический» ямб, нарочито пропетый по слогам.
Однако вернёмся к прозе, где ритм более гибок, но при этом запрещено до́лго держаться одного ровного «шага». В стихе мы должны ясно слышать тот или иной размер (ямб, хорей и пр.) и не должны смешивать его с чуждой ему мерой, иначе исчезает единство стиха. В прозе же, напротив, любое слишком «размеренное» повторение сразу режет слух и начинает напоминать скверные «обломки» стихов, невольно пробравшиеся в текст. Из-за этого плохие и неопытные прозаики – а иногда и уставшие мастера – нередко впадают в монотонные «белостишия», которые, как правило, звучат плоско и убого, ведь подлинной поэзии в них нет: там нет ни плотности «набора» пауз, ни тонкого «контрапункта». Вместо новых красот выходит однообразие. Прозаист же, освобождённый от строгого размера, обязан тем усердней следить за многообразием своих ритмических ходов. Здесь его третья – вдобавок к смыслу и «узлу» – забота: не допустить однотипных фраз, раз за разом «шагающих» с одним и тем же ритмом.