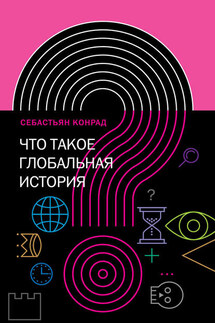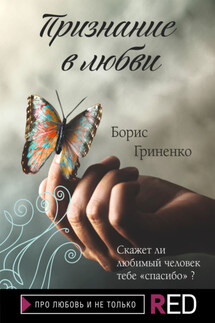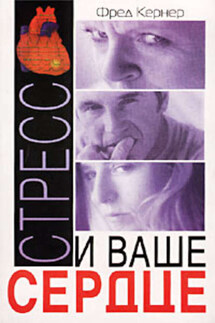Что такое глобальная история? - страница 14
Надо сказать, их доводы не лишены смысла. Мировой порядок в эпоху господства Европы вынуждал весь остальной мир следовать европейским космологиям и способам интерпретации прошлого. Историки все больше заимствовали ключевые понятия из исторических нарративов, опирающихся на наследие XIX века – мечту о либеральном мировом порядке, в основе которого лежит идея нации как движущей силы истории, и некое общее представление о «модернизации». Европейская история преподносилась как универсальная модель развития и выступала в качестве мерила и образца. Переводы европейских трудов, написанных такими историками, как Франсуа Гизо или Генри Бокль, равно как и позитивизм Огюста Конта и социал-дарвинизм, который пропагандировал Герберт Спенсер, – все это также играло важную роль. Когда, например, Бартоломе Митре, президент Аргентины в 1860–х годах, написал историю движения своей страны к независимости, он опирался на общепринятые предпосылки позитивистской просветительской историографии – науку и прогресс, секуляризацию и либеральные свободы, которые органично сочетались с силовой политикой международной государственной системы и режимом свободной торговли[41]. Институциональный экспорт европейской исторической науки – учреждение исторических факультетов, исторические общества, исторические журналы, учебники истории – вносил свой вклад в стандартизацию приемов исторического анализа[42].
И все же было бы упрощением считать, что все вышесказанное появилось только в результате проникновения европейских исторических сочинений в другие части света. В конце концов, в самой Европе модерное понимание истории тоже было чем-то новым и непривычным. Сосредоточенность на концепте нации, основанное на идеале прогресса понятие времени, методология, предписывавшая критическую оценку источников и требование помещать любое явление в глобальный контекст, – все это было по-настоящему смело и для многих европейцев. Это особенно очевидно в изменении концепции времени, которое в Европе, как и везде, воспринималось как драматичный разрыв с прошлым. Академическая историческая наука, едва возникнув, стала вытеснять все альтернативные способы апроприации прошлого[43].
Более того, обычное понимание европейских истоков и всемирного распространения «европейскости» требует осмысления и, до некоторой степени, коррекции с позиций глобальной истории. Причин для этого две. Во-первых, историки всегда хотя бы отчасти опираются на свои собственные традиции и культурные ресурсы, даже когда воспринимают нечто новое. В Японии, например, возникшая в конце XVIII века форма историографии – она называлась «национальная школа» (kokugaku) – предпринимала усилия для освобождения гуманитарного знания от доминирования китайской культуры. Историки занимались дотошной текстологической критикой источников ради сохранения предположительно «чистой» японской древности от привнесенных из Китая религии и культуры[44]. В то же время в Китае появилась «критическая школа» (kaozhengxue). Это научное течение занималось филологической оценкой письменных памятников, установлением неопровержимых фактов и, в случае необходимости, разоблачением фальсификаций[45]. Такие примеры показывают, что приметы современной историографии, которые обычно ассоциируют с именем Леопольда фон Ранке, – пристальное внимание к истории народа и критическая оценка источников – вовсе не обязательно были связаны с непрошеными иноземными культурными влияниями.