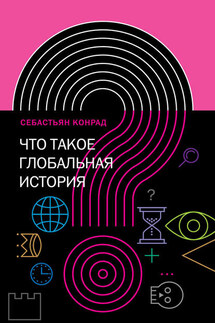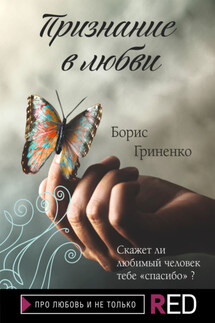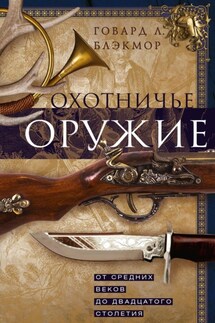Что такое глобальная история? - страница 16
Прогресс по большей части объяснялся внутренними причинами, и, соответственно, его отсутствие приписывалось внутренним препятствиям и ограничениям. Тем не менее, даже занимаясь исключительно вопросами национальной истории, ученые обычно не упускали из виду существование глобальных моделей. Зия Гёкальп, например, описывал переход от Османской империи к турецкому государству как следствие универсальных процессов.
Таким образом, повсеместное утверждение единообразно понимаемой всемирной истории в конце XIX – начале XX века нельзя объяснять, как это нередко делается, просто переносом европейских интеллектуальных ценностей[49]. Даже когда историки и социальные мыслители за пределами Европы высказывали откровенно евроцентричные идеи, основанные на просветительской философии, эти нарративы не были простыми слепками, но часто соответствовали реформаторским интересам местных авторов и их собственному пониманию реалий глобальных перемен. Большинство историков исходило из того, что им следует сосредоточить внимание на Европе, поскольку это материально наиболее развитая часть света в данное время – обстоятельство, которое в будущем могло измениться. Иными словами, они использовали понятие цивилизации, которое понималось как несомненно универсальное, но не привязанное априори к Европе[50].
В условиях асимметрии власти евроцентричный нарратив безраздельно господствовал в течение долгого времени. Однако это не значит, что он рассматривался как единственно возможный и не подвергался критике. Лян Цичао, например, возмущался тем, что «история арийской расы очень часто неверно именуется „всемирной историей“»[51]. В критических замечаниях, высказанных уже в XIX столетии, звучали аргументы, остающиеся отчасти актуальными до сего дня. Критика развивалась по двум основным направлениям, которые мы назовем «системным подходом» и «понятием цивилизации».
Истоки первого критического направления можно найти у Маркса. Исторический материализм несомненно был основан на представлении о стадиальном развитии и, таким образом, нес на себе печать евроцентризма своего времени. Тем не менее марксисты, будучи материалистами, внимательнее других относились к связям и взаимодействиям, то есть к системным условиям социального развития в мировом масштабе. «Манифест коммунистической партии» 1848 года, написанный Марксом в соавторстве с Фридрихом Энгельсом, афористично выражал эту мысль: «Буржуазия путем эксплуатации всемирного рынка сделала производство и потребление всех стран космополитическим… она вырвала из-под ног промышленности национальную почву. Исконные национальные отрасли промышленности уничтожены и продолжают уничтожаться с каждым днем. ‹…› На смену старой местной и национальной замкнутости и существованию за счет продуктов собственного производства приходит всесторонняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга»[52]. Последующая мировая историография зиждется на этих идеях – в особенности школа мир-системной теории, но то же можно сказать об оппозиционных формах историографии «снизу», равно как и об «исследованиях угнетенных» (subaltern studies).
Второй критический подход, основанный на понятии цивилизации, получил распространение в арабском и исламском мире, а также в Восточной Азии в 1880–е годы. В его основе – акцент на культурных различиях и на убеждении, что разные традиции нельзя подчинить парадигме прогресса с ее линейной концепцией времени. Одними из первых сторонников такого взгляда были японец Окакура Какудзо, писавший под псевдонимом Тэнсин (1862–1913), и бенгалец Рабиндранат Тагор (1861–1941). В своей трактовке истории они исходили из права на инакость (