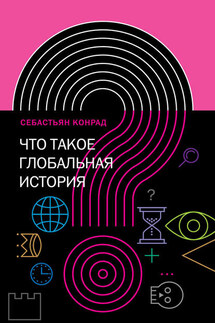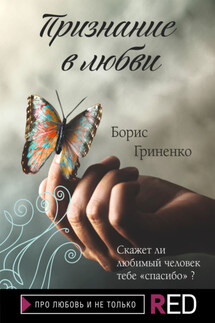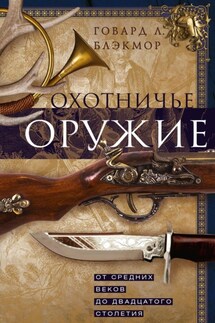Что такое глобальная история? - страница 17
Работы Иоганна Готфрида Гердера (1744–1803) несомненно повлияли на некоторых авторов, поддерживавших понятие цивилизации. В его четырехтомнике «Идеи к философии истории человечества» (1784–1791) высказано опасение, что индивидуальности и уникальности различных мировых культур грозит опасность разрушения в результате европейской экспансии. Тексты Гердера стали важным источником вдохновения для интеллектуалов во многих странах, однако тут снова необходима оговорка: глобальную привлекательность понятия «цивилизация» неверно было бы считать исключительно наследием Гердера[54]. Ей способствовали также сейсмические сдвиги, произошедшие в миропорядке в конце XIX столетия, когда условное разделение планеты на «отсеки» дискретных цивилизаций начинало казаться все более правдоподобным на фоне империализма, расовой доктрины и программ паннационалистических движений[55]. Идея плюрализма «культур», сопротивлявшаяся разделению на «развитые» и «отсталые», набрала популярность только после Первой мировой войны – не в последнюю очередь благодаря общеевропейской критике цивилизации на «рубеже веков», а после 1918 года – благодаря широкому признанию фундаментального труда Освальда Шпенглера «Закат Европы»[56].
Всемирная история после 1945 года
Цивилизационная парадигма удерживалась в исторической науке до второй половины XX века, и новый импульс она получила после выхода в свет десятитомника Арнольда Тойнби «Постижение истории». Первые тома появились в 1930–х годах, но только после Второй мировой войны этот труд сделался действительно влиятельным. Тойнби разделил человеческий мир на двадцать одну цивилизацию, каждая из которых характеризовалась определенными чертами культуры – и прежде всего религии – и обладала своей внутренней логикой, способной объяснить ее взлет и падение. На фоне разрушительных последствий Второй мировой войны этот труд, бросавший вызов универсальному нарративу прогресса, вызвал сочувственный отклик у читателей по всему миру. Монументальная работа Тойнби пользовалась большим успехом у широкой публики, однако в профессиональной среде историков ее автор так и остался аутсайдером[57].
Статус мировой истории внутри дисциплины в целом оставался неопределенным в большинстве стран вплоть до 1990–х годов[58]. И это не удивительно, если учесть, что послевоенный период повсеместно оказался временем национального строительства. Это особенно справедливо в отношении многих бывших колоний, превратившихся в независимые государства: там создание национальной истории стало первостепенным делом. В условиях тогдашнего расклада политических сил ученые этих стран использовали европейское прошлое как мерило для оценки собственной истории, накладывая на нее нарратив развития, созданный по западным лекалам. В тот же период стремительно росло доминирование англоязычной историографии. Такова была общая картина, когда в 1963 году появилась капитальная работа Уильяма Макнила, не случайно названная «Восхождение Запада» и ставшая одним из самых цитируемых исторических трудов. Книга написана несомненно в духе доминирующего евроцентричного взгляда на историю. Современный мир представлен в ней как продукт западных традиций, европейских достижений sui generis[59], которые на вершине своей славы были экспортированы в другие регионы мира. Подобный взгляд, ясно различающий «развитые» и «недоразвитые» страны, превалировал в период, последовавший за деколонизацией