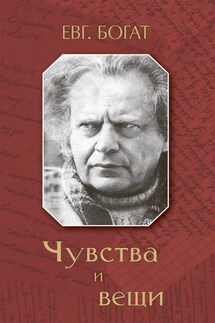Чувства и вещи - страница 59
А хотелось увидеть мне товарищеский суд, который, по существу, вынес человеку, ни в чем не повинному, исключительную меру наказания.
И я поехал в тот город, пошел в тот микрорайон.
Анисья Ивановна Дубровина сидела в пустынном – был послеобеденный безлюдный час – салоне «Союзпечати», осеннее солнце отражалось в аквариумах с золотисто-красными экзотическими рыбками. Она сидела – с хорошо посаженной головой, величаво-седая – в окружении стендов с новыми номерами журналов, что-то читала. Я подошел, поздоровался, назвал себя, объяснил цель командировки.
У меня был к ней только один вопрос, и я его задал:
– Вас не мучает совесть?
– Совесть?! – Она отшатнулась от меня, как от человека, разрешившего себе нечто недозволенное, ну, удар ниже пояса. – Совесть?! Вы посмели? – Она задыхалась. – У меня общественная совесть, а не личная. – Она поднялась во весь рост. – Совесть?! – бушевала она. – Вы… вы… вы… абстрактный гуманист. – Я вдруг ощутил в ней учительницу литературы старых добрых времен. – Я… мы… выполняем долг… мы… общественная организация… мы боремся… боремся… боремся… – Она замолчала и вдруг неожиданно жалостливо сморщилась. – Я материально ответственное лицо, а вы нервируете меня на работе. – Тяжело опустилась на стул, обмякла, тихо заплакала. – У меня диабет, мне нельзя волноваться, я могу умереть к вечеру. Из-за вас!
Я посмотрел в ее моложаво-старое лицо с подрагивающим массивным подбородком и, полностью оправдывая титул абстрактного гуманиста, пообещал:
– Я изменю вашу фамилию и не назову города (что и выполнил).
Она подобрела, повеселела:
– Вечером для вас я соберу товарищеский суд и домком. Вы убедитесь… мы – общественный орган…
– Тихо! – наступал на меня Павлюченков вечером, когда мы собрались в кабинете Дубровиной. – Вы видели решение об отмене нашего решения, а? Видели?
Дело в том, что я начал нашу беседу с вопроса: почему все государственные учреждения, начиная с суда и кончая санэпидстанцией, защищали Шеляткина, а домком и товарищеский суд неусыпно обвиняли? Павлюченков и стал весьма несвязно и темпераментно доказывать мне, что расхождения между ними и государственными органами нет, а когда это не удалось, потому что все документы я не только читал, но и держал в копиях у себя в портфеле, он неожиданно заметил:
– Ну и что? Мы выше.
– Выше чего? – не понял я.
– Ну, – уточнил он неохотно, – райсовета. Мы – общественность…
Если существует потусторонняя жизнь, то известный король Людовик XIV, надо полагать, испытал в эту минуту зависть к Павлюченкову. Даже он, абсолютный монарх, осмелился лишь заявить: «Государство – это я», что было расценено последующими историками как величайшее нахальство. Но не додумался до формулы: я выше государства.
– А что? – разогревал себя Павлюченков. – Надо по душе, по-человечески, по совести. Мы – люди. Я – человек, ты – человек…
– В общем, – мягко, как расшалившегося ученика, остановила его Дубровина, – Трофим Петрович имеет в виду, что нам виднее. Там – она подняла руки вверх, повторяя общеизвестный жест христианских великомучеников, – решают иногда чересчур абстрактно, а мы рядом с людьми.
– Надо по-человечески, – не унимался Павлюченков. – Тихо!
Самое страшное было в нем то, что был он абсолютно трезв. Я подумал, что этот наивный, непосредственный, вымотанный нервной работой в райпотребсоюзе человек понимает совесть совсем как Дубровина. Они относятся к совести, как рантье относится к основному капиталу. Он куда-то более или менее надежно помещен, и можно, не думая о нем, тихо, безбедно жить. В сущности, для них, хоть и ненавидят они все «абстрактное», нет ничего абстрактнее совести. Она обезличена, обездушена, как капитал, который к тому же нажит не ими (рантье редко наживают капитал, чаще наследуют), без нее нельзя, но и с ней – разве вынесешь подобную ношу?! – тоже нельзя. А когда она в банке, то есть в общественном органе, то и хорошо. Я увидел в Дубровиной нравственного рантье, а в Павлюченкове – карикатурное повторение этого социального типа.