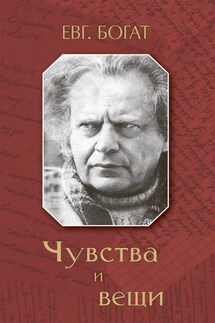Чувства и вещи - страница 61
Вдруг две женщины, пожилые, печальные, похожие на учительниц на пенсии, с розами в целлофане, бегут будто не по тротуару – по перрону, обращаются к очереди:
– Мы на похороны опаздываем.
– Вам заблаговременно надо бы, без суеты… – с незлой, философической укоризной замечает кто-то. – А то что же, даже на похороны стали бежать, о-хо-хо…
– Мы, – букеты показывают, – в очереди за ними стояли большущей. Ну, пожалуйста… – И застывают скорбно рядом с мужчиной, у которого в руках пакет-сугроб.
Когда наконец подкатывает машина, он этим рыхлым пакетом и отстраняет их непреклонно, отодвигая за невидимую ту черту, которую они осмелились беззаконно переступить. Не отодвигает даже, а заслоняется почти автоматически, как от дождя или от ветра, будто бы не люди перед ним, а умеренной силы стихийное бедствие.
Когда такси с мужчиной-сугробом отъезжает, первыми становятся молодые – мужчина и женщина с телевизором; передвинув, они утверждают его на земле, как межевой камень-столб.
И вот очередь (в которой я стою последним) начинает перестраиваться, утрачивая расплывчатость, нестройность, аморфность маленькой толпы, неизвестно, ожидающей такси или нежащейся на солнце. Рождается четкий порядок, вырисовывается стройная линия. Очередь перестраивается, как македонская фаланга в ожидании боя, и вот уже не милые, мирные пакеты, а – мерещится – щиты в руках и даже пики. По одну сторону – фаланга, по вторую – два букетика, обернутые в целлофан, и нераспустившиеся, похожие на немощные детские кулачки бутоны.
– Товарищи! – строго, с достоинством печали и терпения, усовещает одна из женщин. – Мы опаздываем на похороны. Мы не местные, мы летели четыре часа, вещи оставили в аэропорту, потом стояли за розами. Мы опаздываем…
Молодые – по-видимому, муж и жена – водрузили, пыхтя, на заднее сиденье телевизор, поместились сами и укатили. Теперь место первого в очереди занял худощавый тридцатилетний, со складным удилищем, купленным, вероятно, в соседнем магазине «Охотник – рыболов»; его вид выражал высшую степень даже не отвлечения, а полного абстрагирования от действительности; он держал удилище, как антенну, которая, возможно, соединяет его с иными, лучшими мирами, где не умирают и поэтому не может возникнуть беспорядка, подобного тому, что разыгрывается вокруг.
– Умер наш бывший заведующий роно, – заговорила мягче, уступчивее вторая женщина. – У нас на Севере этого, – она развернула целлофан, будто он мешал видеть, что именно у нее в руках, – сейчас не купишь. Вот и потратили непредвиденно часа полтора, извините нас…
Очередь безмолвствовала. Она переживала очередную метаморфозу. Уступчиво-униженный тон второй женщины успокоил ее, и чеканность македонской фаланги переплавлялась в нечто более мирное и в то же время абсолютно обособленное: сообщество людей, объединенных некоей тайной. Тридцатилетнее почти инопланетное существо с удилищем-антенной вонзилось в такси, улетучилось, место его заняло целое семейство: четверо – с бабушкой и внуком, – покупками обремененные настолько, что появилось несогласие, одну машину занять или целых две.
Женщины с иконописными северными лицами стояли за незримой чертой с бутонами роз в опущенных руках.
– Что с вами, люди? – решилась первая, наставительно-строгая, не телом, а мыслью переступить черту. – Люди, что с вами?..
Очередь не ответила. Она не ответила речью на речь. Но она безмолвно дала понять, что напоминать ей сейчас о том, что некто, даже и хороший, умер, некстати, может быть, даже и бестактно…