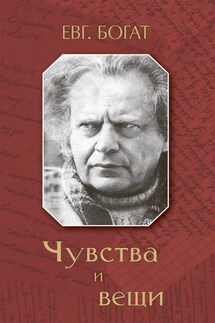Чувства и вещи - страница 67
Линд сам себе помогал: по три часа в день играл на рояле, на гитаре, лесгафтовцы-психологи внушали ему уверенность, оптимизм. И все же долгое время передвигаться он не мог, его водили, водили, водили – и вот уже начали водить по улице и стали подниматься с ним по лестницам. Двадцать пять реабилитаторов-поводырей работали до седьмого пота. Были дни, когда они осиливали с ним до 50 этажей, до 5–7 километров. Их целью стало: Линд должен жить не только без костылей, но и без палки.
И они идут к этой цели. А у каждого семья, быт, работа. И до несчастья с Линдом каждому казалось, что сутки заполнены настолько, что и лишней минуты не остается на какое-либо незапланированное дело: ведь все это люди семейные, занятые и уже не первой молодости.
Они воскресили его. Вчера, сидя в кресле, – впервые после несчастья – он читал лекцию в музее “А музы не молчали”.
Мы хотим назвать имена этих людей. Елена Сергеевна Никитина, Вера Викторовна Красикова, Лариса Прокофьевна Трофимова, Мета Генриховна Саар, Михаил Григорьевич Гусев, ну и, конечно, супруги Лебедевы – Николай Алексеевич и Наталья Николаевна. Но мы еще не всех назвали. Это и супруги Пинчуки Вадим Платонович и Ирина Михайловна, и Юрий Юрьевич Снитовский, и Татьяна Павловна Громова, и Борис Петрович Кашуро, и Борис Иосифович Гендельман, и Виктор Константинович Пантелеев. Но мы еще опять не всех назвали. Чтобы назвать всех, надо, наверное, перечислить всех, кто участвовал в торжестве двадцатилетия. Это они воскресили Линда – если не лично, то посылая лекарства и письма.
Уникальную нейрохирургическую операцию выполнил заведующий нейротравматическим отделением Феликс Александрович Гурчин.
Мы не называем имен тех шестерых, которые медленно убивали нашего товарища, не только потому, что их имена недостойны того, чтобы стоять рядом с именами людей, но и потому, что они пока не известны, не найдены.
Мы можем назвать поименно только добро. Назвать поименно зло лишены возможности».
Письмо двух участников обороны Ленинграда, перенесших блокаду, журналистки С.Драбкиной и поэта В.Азарова, помогло мне рассказать о том, что убедительно как живое, достоверное, эмоционально насыщенное свидетельство и малоубедительно и иногда фальшиво как пересказ.
В самом деле, водят двое уже немолодых мужчин третьего по улицам, по лестницам каких-то неизвестных домов, установив норму пятьдесят этажей в день и пять, например, километров. Ну что об этом расскажешь? Или после рабочего дня массируют часами. И делают это день за днем, неделя за неделей.
Можно назвать это подвигом. А можно – нормой. Все зависит от точки отсчета. Если точка отсчета – отчуждение человека от человека, как в той очереди субботней к такси, это подвиг. Если иная, высокая человечность, это норма.
Назовем это нормой.
Мы видим, что быть добрым – это тяжело, в данной истории и чисто физически, это тяжело, как быть шахтером или пахарем. Это работа. Это труд, в самом непосредственном, буквальном смысле слова – труд души и труд тела. Труд до седьмого пота.
Воспевая и романтизируя доброту как нечто отвлеченно-возвышенно-красивое, как «чистую платонику», мы часто об этом забываем. Но так же, как от земной, неплатонической любви рождаются дети, так и от этой доброты может родиться – воскреснуть из мертвых – человек. Она тоже обладает рождающей силой.
Настоящая, воскрешающая (или человека, или что-то в человеке) доброта непременно сопряжена с неким не одним душевным, но и физическим усилием. Оно нужно не только для того, чтобы поднять беспомощно лежащую в арыке женщину, но даже чтобы отойти в сторону, уступить кому-нибудь маленькое и тем не менее долгожданное место. (Быть недобрым по большей части легко, даже физически; поэтому самый щедрый источник недоброты – лень души и тела.)