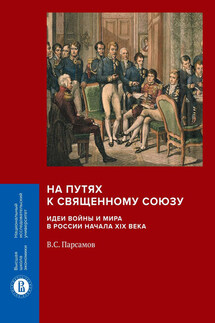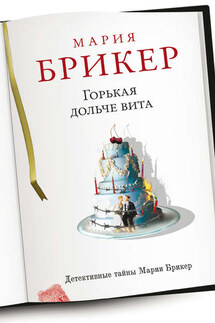Декабристы и Франция - страница 26
Правда, рыцарство Констан мыслит как явление культурное, а не социальное: «Греки щадили пленных, которые могли прочесть стихи Еврипида. Малейший проблеск знания, малейшее зерно мысли, малейшее чувство прекрасного, малейшая форма элегантности должны быть бережно сохранены. Это составляет неотъемлемую часть общественного счастья, надо спасти ее от бурь. Это следует сделать и в интересах справедливости, и в интересах свободы. Потому что все эти вещи ведут к свободе более или менее прямыми путями»>56.
Просветительскому отрицанию исторического прошлого Констан противопоставляет идею непрерывности исторического процесса. Там, где просветители видели предрассудки и преступления, Констан видит осененные временем народные традиции, передающиеся от поколения к поколению: «Каждое поколение, говорит один из иностранцев>57, который лучше всех предвидел истоки наших ошибок, каждое поколение наследует от своих предков сокровище нравственных ценностей, сокровище невидимое и драгоценное, которое оно затем передает своим потомкам»>58. Полностью солидаризуясь с этими мыслями, Констан считает, что законодательство любого народа тем прочнее и тем больше соответствует его духу, чем глубже оно уходит своими корнями в исторический опыт.
Напомним, что именно это, по мнению Вольтера, делает законы «почти повсюду неопределенными, недостаточными, противоречивыми»>59. И как бы возражая своему великому предшественнику, Констан пишет: «Благо законов, осмелюсь сказать, вещь менее важная, чем тот дух, с которым народ подчиняется этим законам. Если он дорожит ими, если он соблюдает их, полагая, что они берут начало в святом источнике, являющем собой дар предков, то эти законы тесно связаны с народной нравственностью, они облагораживают народный характер, и даже если они ошибочны, в них все равно больше добродетелей и счастья, чем в самых лучших законах, опирающихся только на авторитет власти»>60.
Такая позиция Констана казалась его критикам настолько консервативной, что уже в 4-м издании своей книги «О духе завоевания и узурпации» он вынужден был посвятить две дополнительные главы своему оправданию. Суть этого оправдания сводилась к тому, что автор вовсе не противник реформ и постепенного прогресса и что далеко не все в прошлом ему кажется достойным уважения и сохранения, но при всем том «улучшения, реформа, уничтожение злоупотреблений только тогда полезны, когда они следуют народному желанию, и становятся гибельными, когда предшествуют ему»>61.
Таким образом, либерализм в отличие от Просвещения делал ставку на практику, а не на теорию, на опыт, а не на разум, на отдельную личность, а не на народ в целом, но при этом он питался тем же пафосом освободительных идей и во многом использовал ту же логику, что и Просвещение.
Те вопросы, которые во Франции были решены революционным путем, в России еще не потеряли своей актуальности. Освобождение народа от крепостного права по-прежнему оставалось наиболее острой социальной проблемой. Все рассуждения о правах отдельного индивидуума перед лицом «рабства дикого» казались весьма абстрактной проблемой. Либерализм для крепостного права был все равно, что комариный укус для слона. Здесь требовались гораздо более радикальные и более демократические методы.
На повестке дня стоял вопрос не о защите меньшинства от деспотизма большинства, а об освобождении большинства населения огромной империи от угнетения его меньшинством. Ситуация осложнялась еще и тем, что среда, наиболее активно продуцирующая идеи освобождения, представляла это самое меньшинство угнетателей. Оно являлось как бы меньшинством в меньшинстве, отстаивающим интересы большинства.