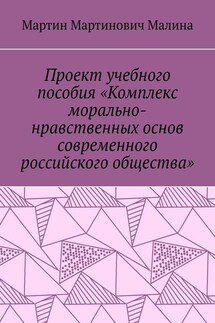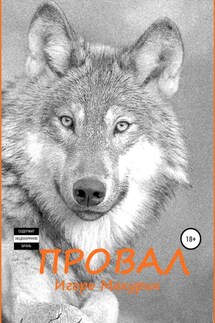Диалог цивилизаций в религиозной сфере - страница 9
В морально-нравственной части даосизм призывает общество возвратиться к неким простым и естественным отношениям в условной деревенской идиллии. В современном истолковании такой призыв можно представить как стремление людей к построению социального государства. После Второй мировой войны католичество, а начиная с 1990-х гг. и православие, призывают к построению такого государства, что поддерживает борьбу с бедностью, разумное перераспределение народного богатства (государственного и муниципального имущества, включая природные ресурсы). В ходе развития даосизма, как отмечает американский учёный К. Джоким, в нём выделились две традиции: 1) большая (свойственна наиболее богатым и влиятельным слоям общества, элите общества, где учения даосизма, конфуцианства, буддизма различаются); 2) малая (свойственна большинству населения с низким или средним уровнем дохода и влияния, где три учения взаимодействуют, «смешиваются»). Возможно сказать, что именно малая традиция ставила наиболее практические цели для человека, общества, которые стали морально-нравственными основами, понятными всем людям: здоровье, богатство, счастье, долголетие, карьера (см. Зинин С. В. Современные западные китаисты о религиозной культуре Китая по Джоким К. Китайские религии: культурная перспектива. НЙ, 1986. в Указ соч. Сост., ред. и вступ. Ст. Б.С. Ерасов. М. – С. 408, 409). Буддизм и даосизм взаимодействуют друг с другом достаточно тесно. Это можно проследить на примере общности морально-нравственных основ. Так, в заповеди монахов даосского монастыря входят: запреты на убийство любых живых существ, на разговор с чувством злобы или же оскорбительно, на получение обманным путём у кого-либо даже медного гроша и др. Такие же заповеди приняты у буддистов. Тесным является взаимодействие между конфуцианством и даосизмом. В священном даосском тексте Хуайнань Цзы (Учителя из южного заречья) говорится о пользе в умении разбираться в пяти конфуцианских правилах поведения, «пяти добродетелях».
В поздний период своего развития, первоначально разрабатываемое как преимущественно морально-нравственное, но не мистическое учение, конфуцианство прибрело черты религии. Несмотря на это, до настоящего времени основное содержание конфуцианства заключается в морально-нравственных основах. Нравственные аспекты, которые конфуцианство ставит на первое место, включают в себя «пять добродетелей»: 1) человеколюбие-«жэнь» (милосердие, сдержанность, скромность, доброта, сострадание, любовь к людям, правдивость, искренность); 2) долг-«и» (человеколюбие претворяется в жизнь посредством добровольного исполнения обязанностей,); 3) нормы поведения-«ли» (церемония, благопристойность, правила этикета, обряды и др.); 4) знание-«чжи» (изучение мудрости древних и использование её); 5) верность-«синь» (покорность и искренность в отношениях со старшим в семье и руководством). Кроме того, в эти добродетели включается также сыновняя почтительность-«сяо». Мудрый правитель должен управлять с помощью воспитания у подданных чувства благоговения перед «ритуалом» (ли), то есть моральным законом, прибегая к насилию только как к последнему средству (см. Сидихменов В. Я. Китай: общество и традиции. М., 1990. – С. 57, 58, Симпкинс А. С., Симпкинс А. Конфуцианство. М., 2006. – С. 79—94). Отношения в государстве во всем должны быть подобными отношениям в хорошей семье: «Да будет государь государем, подчинённый – подчинённым, отцом – отец и сыном – сын» (Лунь юй, глава 12, стих 11).«Благородный муж» (цзюньцзы) – это человек, носящий все эти качества. Добродетель человеколюбия не всегда должна толковаться как наивная любовь ко всем подряд. Помимо благотворительности в законодательстве разных государств можно найти эту добродетель в иных проявлениях. В соответствии со ст. 7 Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ устанавливается принцип гуманизма: «1. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека. 2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства». В целом, следует отметить, что религиозная самоидентификация современного китайца (ханьца) выражается, зачастую, в признании себя одновременно носителем двух или, даже, трёх великих учений Китая.