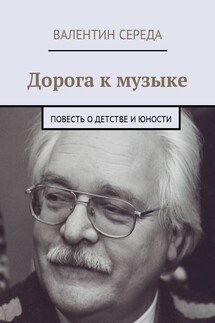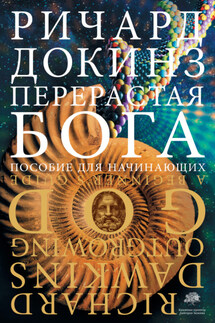Дорога к музыке. Повесть о детстве и юности - страница 15
СКИТАНИЯ ПО СТРАНЕ
Летом 1947 года мама решила ехать в Москву. Собрались быстро – дело было уже привычным, обязанности распределены, тем более что с нами ехал и Владилен. Сели на поезд не без трудностей, но нам повезло – достались две нижние полки. На ночь пространство между ними заполнялось чемоданами, на которых мы все укладывались.
Среди пассажиров поезда было много демобилизованных военных, возвращавшихся с Дальнего Востока после войны с Японией. Вагоны были переполнены до предела и сверх него, люди спали и на третьих, багажных полках, и даже под нижними лавками (там, где сейчас находится закрытое пространство для багажа, было тогда просто две ножки), и на узкой полке, идущей вдоль всего вагона, на которой лежала лестница. Два тихоокеанских матроса в нашем отсеке вагона пристегнули себя широкими флотскими ремнями к трубе, идущей вдоль всего вагона, и таким образом смогли выспаться. Многие из тех, кто ехал сравнительно недалеко, стояли и даже лежали в тамбуре, и, переходя из вагона в вагон, приходилось переступать через них. Один летчик простоял в тамбуре трое суток, зашел в наш отсек и «нырнул» под нижнюю полку («спикировал», шутили пассажиры).
Каждую ночь, иногда и не по одному разу, милиция и патрули с фонариками ходили и проверяли документы. Патрульные стучали по торчащим из-под нашей полки ногам летчика, ноги убирались, появлялась голова и руки с документами, и ноги возвращались на место.
Несмотря на чудовищную тесноту, взаимоотношения людей в вагоне складывались спокойные, доброжелательные, все, как могли, помогали друг другу.
Из картин, мелькающих за окном вагона, остались в памяти перевалы через хребты Становой и Яблоневый, когда к составу прицепляли сзади дополнительный паровоз, чтобы он толкал поезд (получался, как у К. Чуковского, «Тяни-Толкай»).
Здесь открывался величественный вид горной страны, от которого просто сердце замирало – огромные просторы лесной пустыни, лишь по самому краю, вдоль железной дороги редко заселенные людьми.
Местами путь пролегал вдоль горных рек и речек, повторяя изгибы их русел. Зигзаги пути были настолько круты, что, глядя из окна задних вагонов поезда, можно было видеть движущиеся как будто бы навстречу передние вагоны, а из середины поезда – оба конца состава, двигающиеся в противоположных направлениях.
Многое из того, что мы повидали в пути, за давностью уже стерлось, но одно осталось на всю жизнь – это БАЙКАЛ.
Железная дорога, построенная еще в царские, николаевские времена, была тогда проложена по южному берегу озера, и в основном была одноколейной, лишь кое-где были предусмотрены разъезды. Поезд шел вдоль озера почти целый день, и все время можно было любоваться захватывающими видами.
Голубая вода Байкала настолько прозрачна, что позволяет увидеть далекое дно. Правда, картину необыкновенной красоты нарушали кое-где следы аварий и катастроф, о которых можно было судить по торчавшим из воды колесам или краям платформ и вагонов. Берег состоит из высоких скал, нависающих над водой.
Полотно дороги идет достаточно близко к воде и берегу, круто обрывающемуся в озеро. Сквозь прибрежные скалы прорыто множество тоннелей (знающие люди называли цифру 90).
Электричества в вагонах не было, поезд освещался, как в старину, лишь керосиновыми фонарями. Днем они не горели, и когда вагон въезжал в тоннель, мы попадали изо дня в ночь, а когда выезжал – снова возвращался день. Эта внезапно наступающая непроглядная тьма сильно пугала некоторых пассажиров, особенно пожилых женщин, и их возгласы веселили и развлекали остальных.