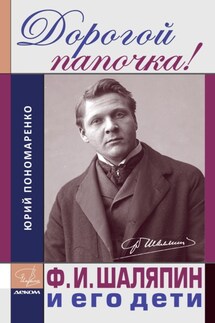Дорогой папочка! Ф. И. Шаляпин и его дети - страница 12
Народный Дом (Н. Новгород)
Давал бесчисленное множество концертов в пользу голодающих крестьян, нуждающихся студентов и ветеранов сцены, для нужд ленинской партии. В связи с этим я хочу привести текст документа, найденного в архивах охранного отделения. Он фигурировал в качестве вещественного доказательства по обвинению якутских большевиков в попытке ниспровержения царизма. Это нелегальный гектографический журнал малого формата «Маяк», первый номер которого вышел в сентябре 1906 года в Якутске. Среди известий под рубрикой «Из партии» есть и такое: «Известный русский певец Шаляпин привлекался к ответственности за передачу ЦК РСДРП 1700 рублей, вырученных от концерта». Неоднократно Фёдор Иванович передавал деньги большевикам через Алексея Максимовича Горького. С первых дней победы Октябрьской революции Фёдор Иванович активно включился в работу по культурному воспитанию народных масс, по пропаганде великого русского оперного наследия. Когда некоторые горячие головы хотели заменить «советским» «буржуазный» реквизит Мариинского театра, Фёдор Иванович встретился с Владимиром Ильичом Лениным, попросил помощи. Ленин поддержал его просьбу. Уникальные костюмы были сохранены. За заслуги в деле развития революционного искусства Фёдору Ивановичу Шаляпину было присвоено высокое звание «Первого народного артиста Республики»… <…>
Каждый год его вдали от родины был наполнен глубокими и тяжёлыми переживаниями, иногда настоящей тоской… «Родину свою люблю и обожаю и буду любить её до гробовых досок», – настойчиво повторял он в письмах. По нескольку раз ходил смотреть советские фильмы, с восхищением читал о подвигах челюскинцев, испытывая гордость за русских людей. В Париже по нескольку раз ходил на выставку в советский павильон. Я в 1932 г., когда приехала к отцу, уже не узнала отца, он стал более молчалив, замкнулся в себе – раньше он всегда вращался в обществе художников, литераторов, артистов, а тут… Это чувство тоски по родной стороне не поддаётся анализу.
Борьба за музей
Всю свою жизнь дочь артиста боролась за реабилитацию имени отца и создание его музея. Дождалась она лишь Решения Мосгорисполкома № 144 о передаче на баланс ГЦММК им. М. И. Глинки их собственного дома для последующей реставрации. 9 августа 1957 года открыла на своём доме бюст отца и мемориальную доску. 14 февраля 1965 года в г. Горьком (ныне Нижнем Новгороде) открыла первый в мире музей артиста при 140-й школе (на месте Шаляпинской школы, построенной в 1906 году) и передала туда часть богатого наследия отца.
Ирина Шаляпина на открытии Музея Ф. И. Шаляпина в горьковской школе № 140, 14 февраля 1965 г.
В 1971 году участвовала в создании и открытии мемориальной доски и комнаты Шаляпина в последней нижегородской квартире М. Горького. Передала часть архивов отца в созданный в Ленинграде 11 апреля 1975 года музей-квартиру Ф. И. Шаляпина. Она же помогла открыть небольшой музей на круизном лайнере «Фёдор Шаляпин».
Только спустя почти 70 лет со дня отъезда Шаляпина за границу открылся музей в их московском доме. Но Ирина этого уже не застала.
Марк Строганов, активный член Шаляпинского общества Ленинграда-Петербурга, познакомился с Ириной Фёдоровной в 1958 году и стал её ленинградским другом и помощником, вёл с ней переписку до конца её жизни. Вот что он вспоминал:
В письмах и общении со мной Ирина Фёдоровна являла собой интеллигентную и колоритную фигуру. Это была открытая натура, постоянно несущая мощный заряд энергии. Она почти всегда угадывала натуру человека, его суть уже при первой встрече. Сама же открывалась не всем – лишь убедившись, что собеседник достоин её расположения. Как правило, это происходило постепенно с течением времени. Её прямолинейность и бескомпромиссность, весьма положительные качества, проповедуемые официальной властью, очень ей мешали жить и работать, как, впрочем, и другим людям. У неё была изумительная память, а некоторые черты характера были чисто отцовские: неприязнь к лести, нетерпение лжи и вообще неправды, иезуитского крючкотворства – это её порой приводило в ярость. Только воспитание и выработанное годами терпение – «держу себя в корсете», как она говорила, – оберегало её от многих возможных неприятностей. Даром это не проходило, она была в нервном перенапряжении и часто в семидесятые годы болела. <…>