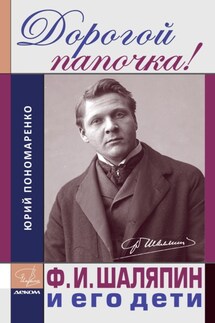Дорогой папочка! Ф. И. Шаляпин и его дети - страница 32
Усатов по такому случаю подарил мне свой фрак. Но он был маленький и толстый, а я – длинный и худой. По счастью, у меня были приятели портные. Они довольно ловко приспособили фрак к размерам моего скелета. И я стал похож на журавля в жилетке.
Наступил день моего первого дебюта. Я вышел на сцену и запел: «Борода ль моя, бородушка»… Публика засмеялась. Я был уверен, что смеются над моим фраком, оказалось – надо мной! Никаких признаков бороды у меня в ту пору не было…»
Покраска «чуда кузнечного искусства» подходила к концу. Свежевыкрашенная люстра весело отсвечивала снизу большим шаром с острым наконечником и таким же шаром в навершии и стала как новая… Папочка сотворил завершающие движения кистью. Придирчиво осмотрел люстру: не допустил ли где огрехи? Всё было превосходно! Только на постеленных на пол газетах было с десяток небольших капель. Чрезвычайно довольный проделанной работой, он аккуратно, изящным жестом положил кисть и, как бы прочищая горло, но далеко не в полный голос, пропел: «И будешь ты царицей ми…р…рр…а…аа!» И вдруг, к нашему всеобщему ужасу, делает шаг назад, забыв, что он стоит на лестнице!
Папа, обладавший хорошей реакцией, уже в воздухе успел сгруппироваться и поэтому как бы скатился на пол. Но грохот был ужасный! Сверху на папу упала лестница с краской. На шум сбежались мама и Лида, донельзя перепуганные: «Господи! Что случилось?»
А случилось то, что и должно было случиться. Папа медленно, слегка побледневший и несколько испуганный, потирая ушибленный локоть, поднимался с полу. Но в каком виде!
Его белоснежный костюм был обильно залит масляной краской, которая струйками стекала с пиджака на отглаженные брюки, образуя живописнейшие разводы и пятна. Папа оторопело и часто моргал белесыми ресницами, оглядывая себя со всех сторон. Перепуганы были все, но Любочка опомнилась первой. Коротко хохотнув, она, зажав рот рукой, стремглав выскочила в другую комнату и, трясясь от смеха, повалилась на диван.
Потом закатились громким смехом и мы все, кроме Иолы Игнатьевны и папы, пребывавшего в великой досаде на самого себя.
– Феденька, пойди переоденься. Ты ужасно выглядишь! – мама говорила с акцентом. Итальянский оставил след на всю жизнь. Почему-то её слова только усилили наш смех. Папа, дав затрещину и Федьке, и Борьке, предупредил: «Коровину не проговоритесь!» После чего поспешно вышел. Мы буквально зашлись от хохота. Смеялись долго, пока не обессилели окончательно. Наконец, мама позвала всех на веранду обедать. Она сидела у огромного блестящего самовара, шумевшего и выводящего «семейную» мелодию. Строго и одновременно по-матерински поглядывала на нас, делая замечания: «Ирина, сиди прямо! Таня, не щипай Федю! А ты, Борис, убери локти со стола!» Она считала, что дети всегда должны знать своё место и «ходить по струнке». Пошалить мы любили!
Последним к столу пришёл папа в белой рубашке и белых брюках, с широким полосатым поясом, который любил. Хмурясь, посмотрел на наши головы, уткнувшиеся в тарелки. Понял, что мы каждую минуту готовы вновь рассмеяться. Хмыкнул понимающе и вдруг широко и обезоруживающе улыбнулся.
– Мамуся, – обратился он к Иоле Игнатьевне, озорно блестя голубыми глазами, – когда приедет Костя, справься, нет ли у него чего-нибудь такого в его театральном реквизите, что бы срочно нуждалось в покраске? Тогда мой костюм пригодится ещё раз!