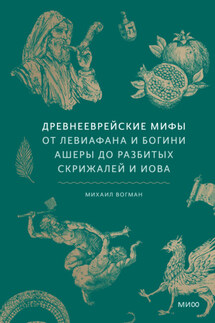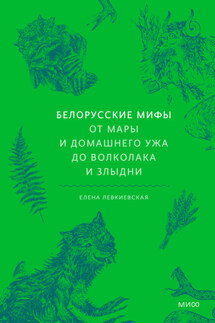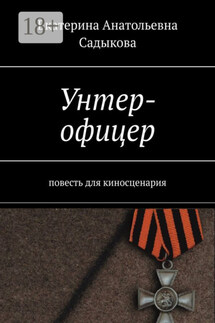Древнееврейские мифы. От Левиафана и богини Ашеры до разбитых скрижалей и Иова - страница 2
Жертвоприношение израильтян перед Скинией (Мишканом) во время легендарных странствий по пустыне согласно библейским описаниям. Неизвестный автор, литография.
Wellcome Collection
Конкретное, образное мышление, отвергнутое философскими учениями, никуда не исчезало из человеческой природы. В этом отношении новые представления – как только мы пытаемся их осмыслить в качестве цельной картины мира – складываются в такую же замкнутую и парадигматическую схему, какой был миф; решают те же задачи идентификации и идентичности, ориентации в мире, какие ранее решались мифом. Несмотря на то что мифологические образы божеств сменились рациональным анализом природы божественного в теологии (образованной от того самого слова «Логос»), а теология – в особенности отрицательная, апофатическая – ставит под сомнение саму возможность что-либо сказать об Абсолюте, а уж особенно в конкретно-образных формах, тем не менее верующие продолжают так или иначе воображать Его, приписывать Ему личностные качества, облик, порой даже место в пространстве (небо, храм, даже сердце). Более того, в той степени, в которой привычным нам мировым религиям свойственны ритуалы, они также сопровождаются новыми мифологическими основаниями.
Однако не только религия – прибежище мифа. Другим таким прибежищем становится, в частности, идеология. Она авторизует определенные нарративы, абсолютизирует их, превращает в парадигму, управляющую непосредственной реальностью. Более того, любое некритическое восприятие, осуществляемое нами, может быть рассмотрено как преемник мифа. Разве не в миф мы впадаем, например, когда говорим о «всех россиянах» или о «всех евреях», вопреки очевидной неоднородности реального населения? Стереотипы, идейные клише, школьные знания в их очевидной условности – все это формы мифического, которое и по сей день противится нашему собственному анализу. Поскольку миф безразличен к доводам, а апеллирует к архетипам бессознательного, он легко может быть намеренно использован политиками и идеологами для оболванивания людей. Однако мифично также и искусство, которое заставляет нас, помимо прочего, соотноситься и отождествляться с изображенным миром; мифична, в конце концов, влюбленность как попытка увидеть в другом нечто большее, чем он сам.
Но не мифичны ли и научные концепты, когда они выходят со страниц трактатов и статей и перемещаются на кухню, в пространство мнений, становятся «общими местами»? Даже сама идея, будто существует некий «миф вообще», а также, например, «еврейская цивилизация», – чрезмерное упрощение, воплощенная абстракция, которую мы как парадигму проецируем на окружающий мир. Лишь осознавая условность таких обобщений, а также конструируя их в рамках определенной аргументативной системы, мы приближаемся к подлинно логическому, а не мифическому мышлению. В этом смысле – как авторитетное представление, отвечающее на вопросы человека о его месте и идентичности, – миф может считаться правящим в мире и поныне.
История еврейской цивилизации, таким образом, являет собой процесс столкновения демифологизирующих, рациональных тенденций, восходящих к осевому времени, и неизбывной тяги человека к созданию мифов – то есть в итоге человеческой жажды смысла, постоянно отпадающей в законсервированное представление. В таком широком значении понятие мифа, безусловно, будет применимо и к еврейскому материалу. Поэтому в этой дилогии была предпринята попытка показать, как две эти тенденции противоборствуют и по-своему обусловливают друг друга.