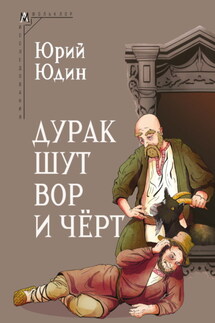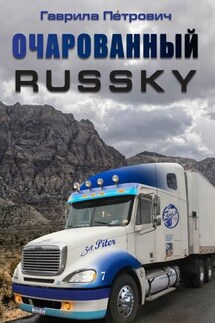Дурак, шут, вор и чёрт. Исторические корни бытовой сказки - страница 7
Глава 1
Выделение жанра бытовой сказки
Не существует проблемы разграничения сказок новеллистических и бытовых со сказками кумулятивными, о животных, волшебными. Проблема возникает, когда мы пытаемся отделить бытовые сказки от новеллистических. Сказочные виды или жанры различаются не названиями, а художественными признаками. Признаки эти в своей совокупности первичны, названия вторичны и всегда в большей или меньшей степени условны.
К существенным и определяющим признакам сказочных жанровых разновидностей относятся: композиция, генезис, типология героев и характер содержания (отношение к действительности; явления, отраженные в сказке). Этот вывод не нов. Структурное исследование волшебной сказки велось В. Я. Проппом в тесной связи с генетическим ее изучением. «“Морфология” [43] и “Историческое корни” [44] представляют собой как бы две части или два тома одного большого труда. Второй прямо вытекает из первого, первый есть предпосылка второго» [45]. Такое изучение давало возможность не только объяснить структуру волшебной сказки, но и избегать преувеличений и ошибок. Оно было необходимым условием содержательного посюжетного изучения волшебной сказки. Метод, предложенный В. Я. Проппом, был подготовлен достижениями европейской филологии, фольклористики и искусствознания конца XIX – начала XX в. Так, например, идея «морфологии сказки» была выдвинута в русской науке А. Н. Веселовским. «Было бы интересно, – замечает он, – сделать морфологию сказки и проследить ее развитие от простейших сказочных моментов до их наиболее сложных комбинаций» [46]. Важно подчеркнуть, что идея морфологии у А. Н. Веселовского вырастает из всего предшествующего генетического изучения сказки. А. И. Никифоров не отрывает морфологию от изучения содержания сказки [47]. В этом сказалось резкое расхождение идей фольклористики с установками формальной школы. Иностранные предшественники морфологического изучения волшебной сказки указаны самим В. Я. Проппом в «Морфологии сказки».
Показательно для истории нового метода, что идеи морфологии (в системе иной терминологии) были выдвинуты не только в филологии и фольклористике, но и в искусствоведении. Новый метод опирался на наследие Гёте, к которому обратился и В. Я. Пропп. В работах Г. Вельфлина наиболее ярко продемонстрировано было единство морфологического, генетического и содержательного анализа произведений европейской живописи эпохи Средневековья и Возрождения. Фундаментальные элементы художественной формы в специфических сочетаниях (т. е. их композиция, морфология) выделяются и изучаются им в качестве предпосылки к историческому и содержательному осмыслению [48]. «Книга должна помочь выработать те понятия, благодаря которым только и станет возможным точное историческое представление» [49]; «речь идет не о единичных произведениях искусства, а только об основном чувстве формы, не об искусстве как таковом, но только о предпосылках искусства», – замечает Г. Вельфлин по поводу своего метода [50].
Можно было бы показать необходимость сопутствующего генетического изучения не только волшебной, но и любых других видов сказки для определения закономерностей ее композиции. В полной мере это относится к сказкам новеллистическим и бытовым. Вопрос о выделении этих видов и их разграничении – один из самых острых в современном сказковедении. Бытовые и новеллистические сказки иногда не различаются, иногда выделяются новеллистические сказки, а бытовые относятся к анекдотам или анекдотическим сказкам. Между тем, с точки зрения генезиса и композиции, новеллистические и бытовые сказки представляют собой реально существующие и различные сказочные виды.