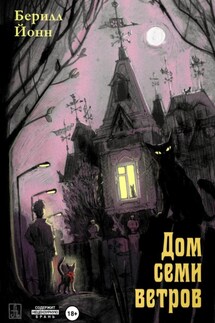Ёськин самовар - страница 34
– Раньше они полностью зелененькие с розовыми боками были… – сокрушалась Галина Николаевна, глядя на груши, будто на своих детей. – А теперь вот, смотри – вся кожура в пятнах.
Она вздохнула, отложила одну сторону и добавила, понизив голос:
– Это все из-за дыма, из-за заводских выбросов. Ты заметил, какое небо над Криволучьем? Фиолетово-оранжевое! Прямо как будто закат, а ведь сейчас день. А там, между прочим, металлургический завод…
Она вдруг замолчала, прищурившись и глядя куда-то вверх – будто пыталась сквозь серое, затянутое дымкой небо разглядеть хоть клочок прежнего, чистого. А потом, словно спохватившись, резко принялась смахивать груши с прилавка в алюминиевое ведро, не разбирая, спелые или нет.
Иосиф и тетя Мотя невольно посмотрели по сторонам. С чего бы вдруг такая поспешность?
– Что за шухер? – шепнула тетя Мотя, чуть наклоняясь к подруге. – Никак милицейский патруль, что ли, заприметила?
Галина Николаевна будто не услышала – продолжала пересыпать груши в ведро, упрямо глядя вниз, точно и вправду что-то рассматривала среди фруктов.
– Ну что, Осип, – словно для отвода глаз, спешно заговорила Галина Николаевна, – как у тебя с работой?
– Пока только медкомиссию прохожу, – ответил он. – Жду документы из Казахстана, без них оформить не могут.
– Главное, что крыша над головой есть и теплая постель под боком, – кивнула она с участием. – Остальное приложится.
Потом вдруг мягко сунула ему в руки ведро с грушами.
– Держи. Погрызешь на ночь… Они страшные с виду, зато сладкие, как детство.
Схватив из-под прилавка небольшой узелок, Галина Николаевна ловко сунула его себе под короткую, широкую куртку на меху.
– У киоска на входе – подозрительный тип, – прошептала она, будто пряча не только узелок, но и свои мысли. – Который день нас тут пасет.
Подхватив подругу под руку, она энергично подтолкнула ее вперед, и уже через мгновение обе женщины, увлекая за собой Иосифа, поспешно направились к противоположному выходу с базарчика.
Иосиф все же обернулся. У газетного киоска стоял мужчина в сером, давно немодном пальто с засаленными воротниками и ярко-синим шарфом, как пятно среди осенней серости. Его руки были глубоко засунуты в карманы, а взгляд – внимательный, цепкий, будто выискивал не покупку, а ошибку. Скуластое лицо без эмоций, словно маска. Иосифу показалось, что глаза у него холодные, как у рыб, – не смотрят, а просвечивают.
Парнишка быстро отвернулся и прибавил шагу. Что бы ни творилось – это не его дело. Или пока не его…
Прививка совести
Надежда вернулась в тот день с работы очень поздно. Хотя это было скорее правилом, чем исключением. Единственному фельдшеру на весь совхоз “Пролетарский” с четырьмя отделениями, раскиданными по бескрайней степи, порой казалось, что она и вовсе не снимает с себя ни халата, ни белого колпака. А стетоскоп, висевший на шее, будто прирос – как амулет, как личный знак ее вечного дежурства. Работы хватало на троих, а успевать приходилось одной.
Она вошла в дом, не включая свет. Лишь полоска вечернего морозного неба, пробиваясь сквозь стекло, серебрила край стола и табурета – единственных свидетелей ее молчаливого возвращения.
Склонившись чуть вперед, она тяжело села, словно в этом движении было больше, чем просто усталость. Молча стянула с себя рабочий халат, скомкала его и положила рядом.
Перед нами сидела крепкая женщина, словно вылепленная из самой земли – такая настоящая, какой бывает хлебный каравай. Лицо ее – простое, почти суровое, без украшений и нарочитых черт. Высокий, чистый лоб – словно открытый для прямых мыслей и ясных решений. Брови – прямые, упрямые, будто начерчены одной линией – сдержанность и принцип внутри. Нос – крупный, прямой, крестьянский, как у тех, кто привык дышать полной грудью, не жалуясь. Уши – прижаты, аккуратные, как у человека, что не слушает сплетен, но слышит чужую боль. Подбородок – тяжелый, уверенный, с едва заметной ямочкой упрямства. Губы – некрупные, бледные, но мягкие в уголках: они умеют не только сжиматься от усталости, но и расплываться в редкой, но доброй улыбке. А короткая, почти мужская стрижка лишь подчеркивает главное: перед вами не баба с огорода и не медсестричка с бумажками – а человек, на котором все держится. И дом, и дети, и поселок. Не жизнь – служба. Тихая, неустанная…