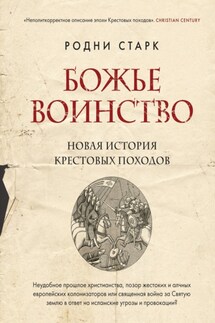Читать онлайн Александр Музафаров - Евпатий Коловрат. Последний герой Древней Руси
© Музафаров А. А., 2017
© ООО «Издательство «Вече», 2017
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017
Самый неизвестный герой русской истории
Евпатий Коловрат. Это имя известно в России каждому, кто неравнодушен к истории своего Отечества. Оно ярко вспыхивает в трагическую эпоху крушения древней русской цивилизации под ударом внешней силы. Это имя стало символом мужества и безнадежной отваги. Это имя встречается практически во всех научных работах и художественных произведениях, посвященных Батыеву нашествию, и, значит, стало частью нашей культуры.
Но за именем всегда стоит реальный человек, и вот об этом-то реальном человеке нам неизвестно практически ничего. Лишь один письменный источник, созданный спустя много лет после описываемых на его страницах событий, донес до нас имя и краткое описание подвига «вельможи рязанского». Всего чуть более полутысячи слов – и родилась легенда, пережившая века.
Но что или кто стоит за ней? Существовал ли когда-нибудь Евпатий Коловрат на самом деле? И если существовал, то какова была его реальная судьба?
Напрасно мы будем обращаться к историческим исследованиям в поисках ответов на эти вопросы. Историки обходят фигуру Евпатия Коловрата умолчанием. И в этом нет их вины. История – наука строгая и точная. Каждое утверждение в статье или книги историка должно опираться на тщательно проверенные письменные источники или на результаты археологических раскопок, в общем, иметь твердое и достоверное доказательство. Исторические работы строятся из этих сведений, как здания из кирпича. В случае же удалого рязанского воеводы этих сведений практически нет. Нет кирпичиков – нет и здания.
Может быть, нам поможет художественная литература? Писатель ведь куда более свободен в своем творчестве, чем историк. Он может реконструировать биографию персонажа, опираясь на общие сведения об эпохе, свой вымысел, а иные места прикрыть лихим поворотом сюжета. Казалось бы, Евпатий Коловрат представляет собой идеального персонажа для исторического романа. Его имя широко известно и привлечет читателя, а отсутствие сведений, столь затрудняющее работу историков, для писателя даже удобно, так как оставляет простор для полета творческой фантазии. Конечно, созданный сочинителем образ не будет вполне достоверен с научной точки зрения, но национального сознания такая достоверность не очень важна. Сколько исторических персонажей в русской (да и не только в русской) истории стали известными и даже знаменитыми благодаря книгам? Кто бы знал короля Артура и его рыцарей, если бы не сэр Томас Мэлори? Кто бы знал д’Артаньяна, если бы не Александр Дюма? Был бы так известен Александр Маресьев, не напиши Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке»? И таких примеров можно привести множество.
Однако при всей популярности жанра исторического романа в нашей литературе книг, посвященных отважному герою, всего три. Еще в нескольких он фигурирует в качестве персонажа. И всё! При этом ни в одной из книг авторы не делают попытки реконструировать биографию Евпатия, ограничиваясь лишь пересказом легенды. Увы, и художественная литература нам не поможет.
Как же быть? Где же искать следы отважного, но столь загадочного героя? Выше уже говорилось, что Евпатий Коловрат не просто персонаж легенды, но и символ эпохи, страшной эпохи Батыева нашествия. Но ведь как человек влияет на историю, так и историческая среда, время бытия во многом определяет его судьбу. А вот тут нам могут помочь историки. Они не занимались судьбой удалого воеводы, но вот эпоха и события были и остаются в центре внимания науки, изучающей прошлое. И сам ход событий, установленные достоверные факты, если их соотнести с легендой, могут многое в ней прояснить.
Итак, чтобы восстановить биографию нашего героя, прибегнем к методу исторической реконструкции. Попробуем наложить легенду на исторические факты и на пересечении легендарного и исторического пространства обозначить основные моменты биографии «вельможи рязанского». Конечно, такая реконструкция не будет в полной мере соответствовать строгим критериям научного исторического исследования, но этот путь позволит хоть примерно, но приблизить образ реального человека, чье имя известно каждому, но мало кому о нем известно что-нибудь, кроме имени.
Хотя эта книга и не является научным исследованием, тем не менее автор считает необходимым снабдить ее ссылками на источники, чтобы читатели имели возможность более подробно ознакомиться с заинтересовавшими их вопросами.
Автор выражает искреннюю благодарность Фонду изучения исторической перспективы за поддержку в написании этой работы.
Три обрыва национальной памяти
Прежде чем перейти к обзору исторических сведений о Евпатии Коловрате, необходимо ответить на вопрос – почему в истории нашего Отечества столь много неясного и неизвестного? Почему, обращаясь к историографии, мы видим удивительное явление – историю России несколько раз «открывали» заново. Конечно, историческим знаниям свойственно не только накапливаться, но и теряться. Современники часто не считают нужным сохранить для потомков знания об обыденных и повседневных сторонах своей жизни. По понятным причинам далеко не сразу становятся известны механизмы и мотивы действий в сфере политики, дипломатии, стратегии. Такие процессы свойственны всем народам, но в нашей истории мы встречаем нечто большее – обрывы национальной памяти, когда информация о прошлом утрачивалась, и ее восстановление занимало продолжительные даже по историческим меркам периоды. Например, имя героя этой книги было совершенно неизвестно ни в XVII, ни в XVIII веке. О нем не знали ни автор «Истории Российской» Татищев, ни автор «Истории России» князь Щербатов, ни академик Миллер, ни Ломоносов – выдающиеся русские историки XVIII столетия. Лишь Карамзин впервые ввел в научный оборот сказание о Евпатии с пометкой – «Обнаружено в Новейшем летописце».
Но что Евпатий. Такие произведения древней русской литературы, как «Слово о полку Игореве», «Задонщина», «Поучение Владимира Мономаха», тоже были неизвестны в то время.
А всего лишь лет сорок назад большинству любителей истории ничего не сказали бы имена Забелина, Костомарова, Иловайского, Ольденбурга. Слышали о Карамзине, но «История государства Российского» была недоступна простому читателю.
Таких глобальных обрывов национальной памяти в нашей истории было три, и все они были связаны с трагическими перипетиями судьбы Отечества.
Первый из них – это как раз эпоха Батыева нашествия. В огне пожарищ не просто сгорали книги, погибли и те, кто мог их читать. Кто знал историю и мог ею интересоваться. В руины и пепел были обращены именно те города, где интеллектуальная культура была наиболее развита, – Киев, Чернигов, Владимир… Все те знания, которые были накоплены в первые века русской истории, сгинули почти безвозвратно. Из примерно 130–140 тысяч книг, существовавших в домонгольской Руси, до нашего времени дожило лишь около пятисот[1], и среди них – ни одной летописи. И если мы что-то знаем о событиях X–XIII веков то только потому, что в тяжелое время монгольского владычестве в рождающемся Русском государстве была проведена колоссальная интеллектуальная работа по восстановлению исторической памяти. Именно тогда были созданы те знаменитые летописные своды, которые являются в наше время основными источниками информации о прошлом. Изучая их, современные историки делают попытки реконструкции более древних летописей и летописных сводов.
Раздробленность русских княжеств, сыгравшая столь пагубную роль в противостоянии нашествию, удивительным образом помогла спасти память о прошлом. Не все центры русского летописания были уничтожены. Уцелели Новгород и Псков, и именно в Новгородских летописных сводах исследователи находят отрывки из сгинувших навеки рязанских. А в XIV веке борьба между Москвой, Тверью и Суздалем за первенство в русской земле шла не только на полях сражений и в придворных интригах. В каждом княжестве начали создаваться собственные летописи и сохранению памяти о прошлых годах уделяли большое внимание. В Новгородской летописи в рассказе о погроме Москвы ханом Тохтамышем в 1382 году упоминается интересная деталь – московские каменные храмы были «до сводов» заполнены свезенными в них книгами. Вместе с чтимыми святынями книги находились в самом безопасном месте осажденной крепости и, увы, погибли в огне после взятия города[2].
Сохранение исторической памяти было делом не только интеллектуальной элиты, но и общенациональным. На Русском Севере, в тех землях, куда не доходили ордынские набеги, сохранилась устная народная традиция. Сохранилась, развилась и укрепилась настолько, что дожила до XIX века, когда ученые начали ее записывать. Именно тогда изумленная Россия открыла для себя мир русских былин, имена Ильи Муромца, Алеши Поповича, Святогора стали частью национальной культуры, обретенной заново. Конечно, сами по себе былины не являются источником исторических сведений, но примечателен сам факт, что народная эпическая поэзия оказалась тесно завязана на историческую традицию.
Второй катастрофой для национальной исторической памяти стали события начала XVII века, известные как Смута. Роковую роль здесь сыграл процесс централизации исторического знания в составе единого Русского государства, начавшийся со времен Ивана III. Превращение удельных княжеств в провинции и последовавший за этим переезд местных династий в столицу привели к ослаблению, а во многих местах – и к прекращению местной летописной традиции. Москва становится не только политической столицей новой державы, но и ее интеллектуальным центром. Эта централизация позволила создать такие значимые для нашей истории произведения, как Никоновская летопись (наибольшая по объему и подробности русская летопись), Лицевой летописный свод, Сказание о князьях Владимирских, Государев Родословец и другие.
Но эта же централизация привела к тому, что разорение столицы в Смуту вызвало не просто материальные потери, но и утрату исторического знания. Погибло много книг (как рукописных, так и печатных, и сам Печатный двор был разорен), окончательно прекратилась общерусская традиция летописания, но главное – погибли или умерли люди, знавшие и понимавшие важность сохранения истории. Документы говорят о том, что первым государям из рода Романовых пришлось фактически заново формировать Боярскую думу[3], приказы, военную администрацию. Значительно обновился также состав Патриаршего двора и столичных монастырей. Узкая прослойка интеллектуалов, занимавшихся государственной историей, была уничтожена, а у новых государей было слишком много проблем внутри страны и во внешней политике, чтобы уделить должное внимание истории.
При этом размер утраты на уровне владения информацией заметно превосходил реальные материальные потери. В библиотеках монастырей и некоторых городов сохранилось большое количество рукописных и печатных книг XV–XVI веков, но они не были востребованы. В результате к концу XVII века утрата исторических знаний стала реальностью.
Взошедший на престол в 1682 году младший сын царя Алексея Михайловича Петр, будущий первый Император Всероссийский, был одним из немногих, кто понимал проблему. Известно, что царь-реформатор неоднократно проявлял интерес к древней истории России. В его указах можно найти ссылки на сведения, почерпнутые из летописей