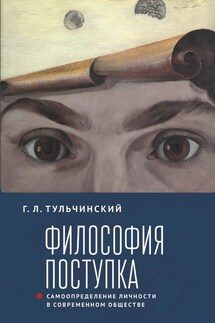Феноменология зла и метафизика свободы - страница 57
Стыд и избегание неудач оказываются не просто противоположными по знаку гордости и стремлению к успеху. Более того, иной стыд и иная скромность, действительно, сродни гордыне, оказывающейся их подоплекой и изнанкой. Вот еще одно свидетельство того же человека, глубоко заглянувшего в свою душу: «А скромность? Пресловутая эта скромность. Не зря говорят, уничижение паче гордости. Я, мол, вот какой скромный. А вы, мол, вот какие гордые. Не говоря уже о том, сколько ненужных обид и неудобств она доставляет самому “скромному”. Сколько очередей он выстоял понапрасну, не спросив, необходимо ли выстоять. А иные очереди по скромности выстоял дважды! А скольким людям, неприятным и чуждым, он подчинялся просто из боязни задеть их самолюбие, оказаться в их глазах гордым. Сколько раз, сопровождая их Бог знает куда и зачем, занимая их неинтересными занятиями, играл в их тоскливые игры, проводил с ними пустынное время, поил их, веселил, развлекал их, а то и хуже, отдавал им то, что самому было важнее всего. Как торопился отдавать! Чтобы не подумали, что жалею! Завидя вдали, переходил на другую сторону улицы и обращался в бегство у них на глазах, и они не понимали, в чем дело»[70].
Такой горделивый стыд может стать феноменом общественного сознания, завладеть целыми социальными слоями, а то и этносами, как это имело место с российской интеллигенцией конца прошлого – начала нынешнего века. Самоунижение, служение – за которым медленно, но верно прорастало навязчивое самозванство знания, как других сделать счастливее помимо их воли. Вина перед народом, хождение в народ, просветительство в рабочих кружках, захват власти, коллективизация – от благоговения перед крестьянской общиной до насаждения колхозов – звенья одной цепи. Цепи, приведшей к нынешнему распираемому гордыней самоуничтожению общества. Будет еще место в специальном разделе поговорить об этом подробно, а пока стоит отметить, что амбивалентность горделивого стыда сродни бесстыдной гордыне и является верным симптомом самозванства. Эту же симптоматику описал в своем «Апокрифическом Евангелии» великий парадоксалист Хорхе Луис Борхес:
«28. Делать доброе врагу могут праведники, что не очень трудно; любить его – удел ангелов, не людей.
29. Делать доброе врагу есть лучший способ тщить в себе гордыню».
Отслоить, отделить стыд от гордыни – высший пилотаж нравственности: граница между ними – граница добра и зла. Но сделать это на основе традиционной дихотомии, «алгебры» гордости и стыда, успеха и неудачи невозможно. Не следует поэтому преувеличивать мировоззренческие и концептуальные возможности «формулы счастья». В лучшем случае она выводит на парадоксы, сталкиваясь с любой нетривиальной нравственной проблемой вроде проблемы самозванства. Успех и неудача, гордость и стыд – категории, а главное – феномены, сложные, чреватые в своем содержании самозванством и требующие поэтому уточнения их содержания, соотнесения с уровнями социальной и нравственной зрелости личности.
Успех успеху рознь. Наиболее очевиден просто успех-признание. Его типичным примером является популярность. Известность киноартиста, звезды эстрады, спортсмена, футбольной команды, об успехах которых на все лады вещают средства массовой информации, интервью с ними на радио и телевидении, фотографии, подробности жизненного пути и личной жизни, толпы почитателей, ожидающих автографа или просто взгляда, – крайнее выражение такого рода успеха. Не каждый человек способен его выдержать, не всякая личность проходит через него без нравственных деформаций. Не случайно народная мудрость выстраивает по нарастающей испытания огнем, водой и медными трубами. Медные трубы славы, успеха-популярности не каждому под силу.