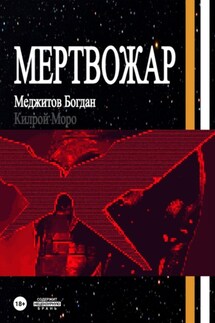Фетишизт - страница 7
***
Катенька сегодня превзошла саму себя и даже больше. Аврелий тогда подумал, что все-таки зря он обесценивал ее лагерный суррогат— первый секс на нее повлиял благотворно.
На столе дымились тушенные бараньи хвостики под уваренной эспаньолой, рядом лежал вальдшнеп, обложенный сухими хлебными корочками, тут же стоял почти настоящий пармский сыр из палаццето Марь Санны; скрипучие, как старые матрацы, огурцы; свиная колбаса, однажды выдранная на Тверской; чеснок, кольца лука, соленое мясо, корнишоны и маслянистая редька.
Настроение Аврелия, совершенно ошалевшего при взгляде на стол, быстро дрогнуло и переменилось: с младенческой улыбкой он думал, что в сущности Гогман—хороший человек и достоин большего, что Ханс—так уж и быть, во флигильке приживется, нужно только подождать, и Катя, святая Катя, на самом деле ни в чем не виновата, а все это война и обстоятельства.
Поглядев на еду, может быть, с секунду, все собравшиеся в конце концов голодно ощерились.
Захрустели огурцы вместе с пуговицами на рубашках, стали ломаться косточки вальдшнепа и разрываться в клочья Тверская колбаса. Еда стекала по желудкам и симфонически урчала. Застолье оказалось отменным, а самое главное—очищающим умы и души.
Ханс с Катенькой отстранились и о чем-то зашептались.
Тарас, икнув, потянулся за эспаньолой. Из всех сидящих в процентном соотношении он выжрал больше всего и сейчас с раскрасневшимся набухшим носом потянулся за добавкой. Под ним завизжала половица, и Тарас, не издав ни звука, бухнулся вместе с едой на пол. Со счастливым, но обескровленным лицом и раздутым голым пузом, по которому заструились синюшные вены, Тарас торжественно утих.
– Реля,—Гогман, смутившись, подавил отрыжку,—глянь-ка, что с ним.
– Дохляк,—отшутился Аврелий.
Присутствующие слабо засмеялись, а Маша, вдруг почувствовав себя дурно, решила напоследок привести Тараса в чувства. Толкнув его раз-другой, Маша озаботилась. Тарас не шевельнулся, но посинел как мертвец. Все вместе они собрались вокруг него, как пограничные столбы, и стали слушать сердце. Ни стука, ни шевеления, только сардоническое чваканье желудочных соков.
Стало неловко и тихо.
– Умер,—пролепетала сердобольная Маша и грохнулась в бессознательное.
Неловкое чувство
Аврелий сидел на кровати и, сощурившись, глядел, как за окном кружатся увесистые снежные хлопья.
Тарас, что выяснилось, действительно вчера скончался. Выходило неловко. Машу привели в чувство, успокоили, посидели, подумали. Тараса отнесли в дальную комнату, накрыли простыней и велели Хансу гнать в село за священником. Ханс скоро вернулся и сказал, что дальше своего носа во дворе не видит. Опять молчаливо уселись друг напротив друга. Лапикур сообщил, что днем приплывает их пароход. Подумали еще. В конце концов решили, что завтра утром Лапикур с Машей уедут, а Гогман организует похороны по приезде священника и черкнет им вдогонку весточку.
Единственное, выходило дорого доставлять в Краслпорт.
С утра Бирюлевы отъехали: Маша держалась сурово, а потом все равно разревелась как девчонка. Лапикур только пожал плечами: «Все однажды уходят на дно, так отчего ж горюниться?»
Аврелий их не провожал. После вчерашнего ужина все его желания сводились к одному простому и человеческому— хорошо выспаться. Распрощавшись со всеми по-тихому, Аврелий ушел к себе.
С минуту он сидел, бодрствуя. Десятый утра. Это значило, что Бирюлевы часа два-три назад уехали. Аврелий про них не думал. Немного он думал про Тараса, но более в том плане, что его флигельку приходится уживаться с тарасовой тушей. В остальном же все мысли Аврелия занимал сегодняшний сон. Аврелию такие снились редко—быть может, еще в детстве, он точно не знал—и были над всеми остальными снами особенно яркими и пугающими. Не знал он также и то, к чему такие сны вообще снятся, но чувствовал—неспроста.