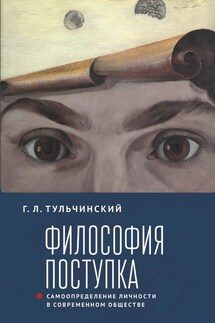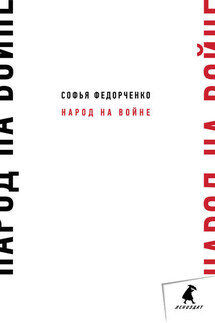Философия поступка. Самоопределение личности в современном обществе - страница 35
Как, на фоне всеобщего движения за поддержку прав инвалидов, расценивать заявления ряда ассоциаций слепых и глухих, в которых они протестуют против планов разработки геномных методов лечения их недостатков, поскольку это грозит гибелью их особых субкультур, аккумулирующих специфический опыт и ценности, недоступные «нормальному» миру? И как быть с нередкими обращениями к врачам родителей – инвалидов, например, когда и отец, и мать – слепые, помочь им и «скорректировать» развитие плода, чтобы их ребенок родился тоже слепым. Как написано в одном из таких заявлений: «Мы не хотим, чтобы он был одним из вас. Мы хотим, чтобы он был одним из нас, остался в нашей семье, в нашем сообществе. В нашем мире, о котором вы ничего не знаете, не хуже, чем в вашем»25.
Возникли и менее экзотические, но не менее острые проблемы – именно в плане вмешательства в поведение. Например, появление группы общедоступных лекарств, позволяющих корректировать поведение, вызвали неоднозначную ситуацию в педагогике и семейном воспитании. Если ребенок импульсивен, не может долго задерживать внимание, не слушает, когда к нему обращаются, испытывает трудности при выполнении заданий, требующих внимания и интеллектуальных усилий, легко отвлекается, то ему может быть поставлен диагноз – синдром недостатка внимания и гиперактивности, и назначено лечение риталином, который «нормализует» поведение. В ряде американских школ это лекарство потребляют до 10 % школьников. Противники все расширяющегося потребления риталина обращают внимание на то, что рост потребления препарата связан со стремлением снять с себя ответственность. Школьник освобождается от ответственности за свое безобразное поведение: его надо не воспитывать, развивая самодисциплину, а просто дать лекарство. Родители освобождаются от ответственности за плохое воспитание своего чада, просто за то, что запустили ребенка. Виноваты не они, какая – то патология и исправлять поведение они должны, не уделяя ребенку больше внимания и заботы, а оплачивая лекарство и визиты к врачу. Ну и само собой, учителя освобождаются от ответственности за неспособность привлечь внимание или призвать к порядку шалуна: риталин в их сознании занимает место педагогического таланта и опыта.
Во всех приведенных примерах существо проблем, порожденных ими – не просто этическое. Речь идет границах личности, которые в европейской традиции совпадают с границами свободы и ответственности, возможностью проявления свободы воли, самосознания, разума.
Но границы личности, как уже отмечалось, зависят, прежде всего, от особенностей культуры, которой принадлежит личность, и которая собственно и определяет границы личности.
В настоящее время в цивилизованном обществе нравственно – правовые границы личности как субъекта поступка и ответственности за него, практически совпадают с границами биологическими – психотелесной целостности индивида, буквально – с кожно – волосяным покровом тела. Но разве тенденция сужения границ вменяемости и личности не может быть продолжена уходом вглубь тела под кожно – волосяной покров в стремлении к некоей точке с возможным последующим расхождением «по ту сторону точки» в некоем новом запредельном расширении?
Где и когда личность? В XXI столетии эти вопросы звучат весьма нетривиально. Психологи и даже педагоги говорят о пренатальной (внутриутробной) стадии развития личности. Родителям впору как в «Стране водяных» Акутагавы испрашивать у не родившегося плода согласия на его рождение. Поневоле начинаешь вспоминать соратницу В.И. Ленина О. Лепешинскую, ставшую в советское время известным биологом и занимавшуюся воспитанием зиготы. Вообще, складывается впечатление, что еще немного и можно будет говорить о презиготной стадии развития личности.