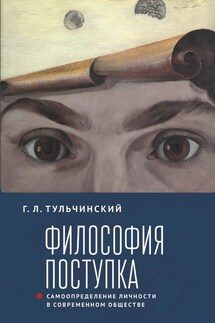Философия поступка. Самоопределение личности в современном обществе - страница 49
Главным отличием намерения от простого стремления является поэтому конкретизация интереса во вполне определенные и конкретные цели, представляющие собой не что иное, как представление о желаемом результате. Цель суть образ желаемого конкретного результата. Этот образ может выражаться как образ желаемого будущего («так нет, но хочу, чтобы так было») или в знании нежелаемого настоящего («так есть, не хочу чтобы так было»). При этом, человек чаще лучше знает, чего он не хочет, чем то, что он хочет. Более того, часто «хочу» является поздней, а то и защитной рационализацией «не хочу». Восставшие на «Очакове» матросы не социалистическую революцию хотели, они не хотели есть червивое мясо. В 1917 – м и в 1991 – м люди выходили на улицу не желая настоящего, вряд ли они желали то будущее, которое получили.
Однако содержание поступка не исчерпывается целями. Можно иметь очень ясные и четкие цели, но тем не менее быть лишенным возможности реализации поступка. Речь идет о том, что намерения и стремления должны дополняться и подкрепляться представлением о возможности его совершения, когда намерение развертывается в конкретную программу действий. В этой связи встает необходимость дополнения намерений (интереса, конкретизированного в целях) еще таким компонентом мотивации, как потенция личности, отражающим знание личностью средств, путей и возможностей достижения целей (П.В. Симонов называет этот компонент мотивации осознанием личностью ее «вооруженности»69, другие авторы – «компетентностью»). Другими словами, имеются в виду не сами способы и средства деятельности, реализующие намерения субъекта, а представления о способах и средствах, которыми он располагает. Если в целях находит выражение «знание что» необходимо субъекту, то здесь речь идет о «знании как» это реализовать и достичь.
В определенном смысле возможности, как составляющая механизма мотивации, связаны со способностями. Разумеется, абсолютно справедливыми являются утверждения о том, что «понятие способностей является одним из ключевых в раскрытии содержания личности», что «в диалектике способностей и потребностей заключены немалые возможности объяснения развития личности», и что «принцип деятельности не будет доведен до "конца", если в системные характеристики личности – в диалектической связи с иерархией мотивов, потребностей не будет "заложена" иерархия способностей личности»70. Однако анализ способностей ведет в специфически психологические аспекты проблемы. В системе же мотивов поступка существенное место имеет представление личности о своих собственных возможностях реализации конкретных целей. А это не только способности, но и обученность, усвоенный опыт, иногда вне связи со способностями.
Более того, П.В. Симонов неспроста говорил о «вооруженности». Владение средствами, ресурсами, инструментами выступает мощным мотивационным фактором. Примерами могут быть «вьетнамский синдром», впервые выявленный у американских солдат, участвовавших в военных операциях во Вьетнаме, потом в нашей стране были констатированы «афганский», а потом «чеченский» синдромы. Это когда молодой человек, имея в руках оружие, мог решать вопрос – жить другому человеку или нет. Возвращаясь к мирной жизни он может испытывать «ломку»: «Почему я должен улыбаться этом человеку, иметь с ним дело? Он мне не нравится. Он не наш. Хочу обратно. Там было проще». Иногда такие люди становятся опасными для окружающих, вербуются криминальными структурами. Поэтому в США военнослужащие, участники операций в «горячих точках», проходят специальную психологическую реабилитацию.