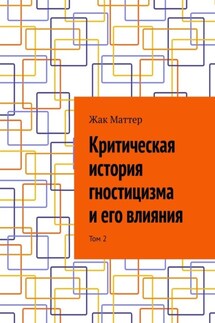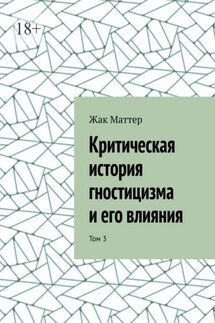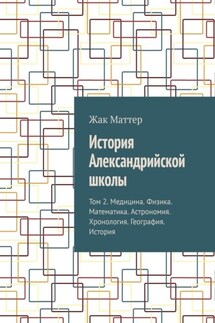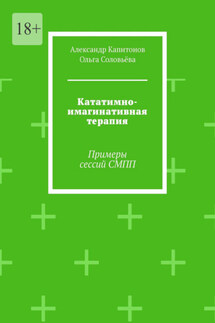Философия религии. Том 1. Наука о материальном мире - страница 25
«Созерцание каждой отдельной вещи, хорошей или прекрасной, приводит к представлению о единой и высшей благости и красоте, из которой с необходимостью проистекает всё доброе и прекрасное в частностях. Мы не можем мыслить даже самое частное благо, не восходя по закону нашего ума к всеобщему, универсальному благу, чье сообщение или эманация создает или составляет все индивидуально хорошие вещи.
Но из одной лишь возможности мыслить Бога, или, точнее, придавать смысл этому слову, с необходимостью следует реальное существование Бога. Ибо если мы мыслим Бога как существо высочайшей совершенности, но при этом отрицаем реальность Его существования, то получится, что тот, кто добавит к этому понятию Бога идею реального существования, помыслит существо, превосходящее первое. Ведь существование – это тоже часть совершенства.
Следовательно, когда мы мыслим Бога как существо высочайшей совершенности, мы необходимо мыслим Его как существующего, и Его реальность устанавливается для нас на том же основании, что и все остальные Его качества.
Если это еще не убеждает, вот неопровержимый довод:
«Тот, кто верит в Бога, верит, что Он есть нечто такое, выше чего нельзя помыслить ничего. Существует ли такая природа на самом деле? Безумец, отрицающий ее, тем не менее понимает сказанное, и то, что он понимает, пребывает в его уме, даже если нигде больше.
Идея предмета не подразумевает веры в его существование. Художник, задумавший картину, знает, что ее еще нет. Но то, что лучше и больше всего, что можно помыслить, не может находиться только в уме; ибо если бы оно было только в уме, его можно было бы помыслить существующим в реальности – то есть помыслить еще большим, что противоречит исходному предположению.
Следовательно, то, выше чего ничего нельзя помыслить, существует и в уме, и в действительности. Как только оно мыслится, оно уже есть.
Если бы существо, выше которого нельзя ничего вообразить, можно было считать несуществующим, то это несравненное существо уже не было бы тем, выше чего ничего нельзя помыслить. Противоречие очевидно.
Значит, действительно есть существо, выше которого нельзя вознести другое, и поэтому оно мыслится как не могущее не существовать. Это существо – Ты, о Боже!»
Et hoc es tu, Domine, Deus noster! (Ансельм, De Fid. Trin., гл. II, изд. Gerberon, стр. 42.)
Этот ход мысли часто критиковали, и справедливо указывали на его чисто схоластический характер. Его знаменитый автор, развивавший его в разных формах (см. его Прослогион и Монологион), приписывал ему почти всемогущую силу; но уже в Средние века даже те, кто меньше всего сомневался в существовании Бога, признавали его недостаточность.
Пока святой Ансельм, чувствуя свою правоту, восклицал в духе псалмопевца: «Сказал безумец в сердце своем: „Нет Бога“» (Пс. 13:1), – монах из Мармутье (близ Тура) Гаунилон, который, впрочем, считал Прослогион Ансельма великолепным сочинением, очень наивно ответил ему, что, напротив, безумец должен так сказать – именно потому, что он безумец (Liber pro insipiente).
Тем не менее, святой Ансельм оставался настолько убежден в своей теории, что продолжал повторять ее в своих трудах, и его Трактат о Троице, среди прочего, дает ее в наиболее краткой форме:
«Многие вещи благи; они таковы благодаря единой высшей вещи: следовательно, Бог есть существование, через которое существуют все другие.