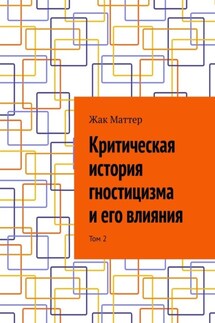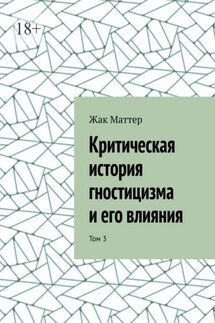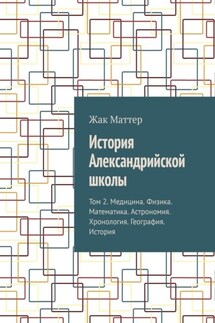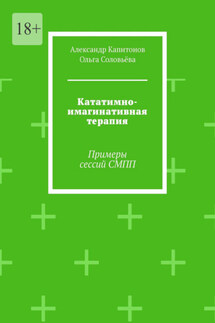Философия религии. Том 1. Наука о материальном мире - страница 27
Лейбниц также возвышается над мыслью Декарта к мысли святого Ансельма, но не для того, чтобы ее усилить, а чтобы привести к сомнению, ибо он мало ценил онтологический аргумент, предпочитая космологический, который сам и выдвинул.
«Существование возможно лишь постольку, поскольку возможно само существо. Без сомнения, совершенное существо должно существовать, иначе оно не было бы совершенным. Но нет ли противоречия в самой идее совершенного существа? Пока это не доказано, вы не доказали, что Бог есть, ибо Он существует лишь постольку, поскольку возможен».
Вольф, с его очень ясным умом, почувствовал, что нужно разрешить это затруднение, и решил, что лучше всего показать в своих «Разумных мыслях», что в идее совершенного существа нет противоречия.
«Совершенное существо обладает всеми качествами, – говорит он. – Для него нет никакого отрицания, никакого ограничения, и это не заключает в себе противоречия. Если существо, обладающее всей реальностью, возможно, то оно действительно, ибо существование – величайшая реальность. Оно даже необходимо, ибо необходимое существование есть высшая степень бытия».
Это было действительным возвращением к идее святого Ансельма и приданием его аргументу всей возможной силы. Но, повторим, эта сила не всемогуща.
IV. Этические доказательства. – Оценка всех доказательств
Существует два доказательства, называемых этическими, из которых одно по сути историческое, но во Франции именуется моральным, а другое действительно этическое, однако в Германии его называют метафизическим.
Первое – это факт, что всегда и повсюду человеческий род в той или иной форме верил в существование духовного существа, могущественного и мудрого, которое создало миры и управляет их бытием.
Вывод, сделанный из столь фундаментального и всеобщего факта, несомненно, обладает большой авторитетностью. Однако это не философский аргумент, и критика имеет право – даже обязанность – исследовать, на чем основано это всеобщее убеждение. Является ли оно просто ошибкой, пустой иллюзией? Или же это врожденная идея нашего вида, исходящая от совершенного существа, первичное чувство, составляющее часть жизни души, естественное и непосредственное озарение человеческого разума божественным духом? А может, это творение разума, предположение, прозрение веры?
Каждый из этих вопросов одинаково важен, и все вместе они образуют проблему, наиболее трудную для решения. В конечном счете, нельзя отрицать, что идея Бога имеет одно из тех происхождений, которые остаются сокрытыми от разума. Поэтому ценность аргумента, основанного на авторитете, сколь бы всеобщим он ни был, естественно страдает от тайны, окружающей рождение этой идеи. Тем не менее, никто не может противостоять всем, и Цицерон прекрасно выразил суть исторического доказательства в своих резких словах: «Nulla gens tam immansueta, tam fera, quæ non Deum habendum esse sciat» («Нет народа столь дикого и варварского, который не знал бы, что Бог должен почитаться», De leg. I, 8). Конечно, строгая философия не позволяет принимать догмат на чей-либо авторитет, но нельзя не признать, что авторитет всего человечества имеет огромный вес.
Возражают, что в определенные эпохи человечества серьезные заблуждения бывали более или менее распространены. Но отличие всех этих заблуждений от рассматриваемой истины в том, что со временем они ослабевали и наконец исчезали, тогда как истина, о которой мы говорим, становилась все яснее и сильнее с тех пор, как была дана человеческому сознанию или завоевана им. Из века в век учение о существовании Бога становится богаче и прекраснее, и каждый шаг цивилизации привносит в него новую идею или более достойную форму. И конечно, если сам факт его всеобщего владычества – не философский аргумент, то это, по крайней мере, моральное соображение величайшей важности.