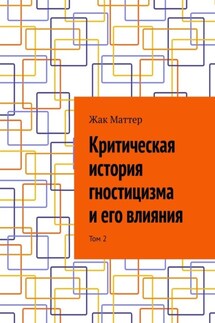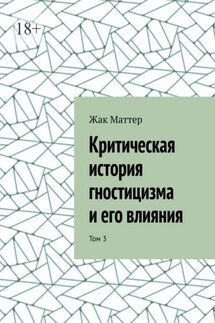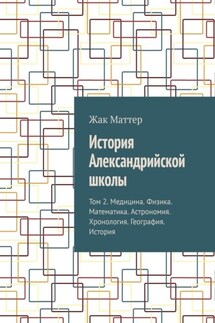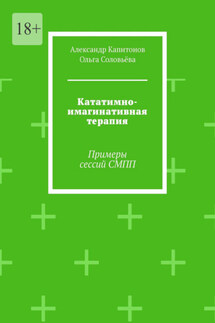Философия религии. Том 1. Наука о материальном мире - страница 28
В своей второй форме – собственно этическое доказательство, представленное как единственно верное главой критической школы Кантом, – оно выводится из понятия разума о высшем благе, которому соответствует неотделимый от него факт сознания – любовь к этому благу.
Понятие разума о высшем благе требует существования творца, который был бы принципом справедливости и законодателем свободных существ. Любовь к благу требует абсолютного ценителя или судьи, который вознаграждал бы добро и карал зло. Этот принцип – творец справедливости, и этот судья – воздаятель за добро и мститель за зло – не могут не существовать, ибо если бы их не было, то в нашем практическом разуме не было бы того, что в нем есть. Но это в нем есть – следовательно, они существуют. И настолько несомненно, что мы вынуждены верить в них, как только верим в самих себя.
Кант, придавший этому рассуждению наиболее точную форму, не был его создателем, но считал себя таковым и придавал ему столь большое значение, что, показав сначала несостоятельность всех прежних доказательств, он украсил это всею роскошью своего обильного и тонкого гения. Он назвал его единственно возможным доказательством бытия Божия (Der einzig mögliche Beweis vom Daseyn Gottes). Но на самом деле человечеству пришлось бы несладко, если бы это было так, ибо это доказательство далеко не пользуется той популярностью, которую имело когда-то. Очевидно, что Кант не изобрел его, а нашел у Платона, чья этика основана на идее высшего блага. Более того, Платон развил его с такой любовью, что в нем можно усмотреть в зародыше идеи Декарта, св. Ансельма и Канта. Вот его рассуждение в существенных чертах:
«Мы испытываем потребность любить прекрасное, и наше чувство требует для своего удовлетворения бесконечного, совершенного прекрасного; во всяком случае, ничто несовершенное, ограниченное не может его удовлетворить. Откуда же это чувство, как не от Того, Кто Сам по Своей сути есть благо и прекрасное, источник всякого восхищения и любви? Таким образом, любовь и другой побудительный мотив – разум в его высшей функции, диалектика, – суть два крыла, на которых душа возносится к созерцанию абсолютного, прекрасного, совершенного».
Этот аргумент не только лежит в основе всей морали Платона, но также составляет основу этики св. Августина и мистической теологии многих средневековых докторов, особенно св. Ансельма, не говоря уже о некоторых современных философах.
Таким образом, Кант сам первый впал в заблуждение, с таким жаром развивая и с такой иллюзией преувеличивая ценность одного порядка идей, столь же древнего, который не стоит ни больше, ни меньше многих других. Возможно, его ждет даже менее счастливая участь, ибо он страдает тем недостатком, что основывается на разграничении, по сути схоластическом, – разграничении теоретического и практического разума. Действительно, согласно Канту, понятие добра, как и любовь к добру, принадлежат не теоретическому, а практическому разуму. Но всё это разграничение чисто схоластическое: у нас только один и тот же разум. И неприемлемо это утверждение Канта, что Бог, рассматриваемый как Существо существ, как причина и провидение мира, есть чистая гипотеза, доказательство которой невозможно, тогда как мы обязаны верить в Бога, рассматриваемого как принцип всякой справедливости, как законодатель свободных существ, как вознаграждающий добро и карающий зло.