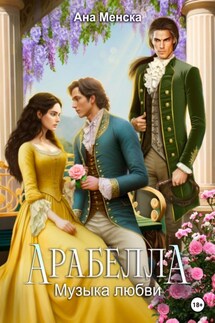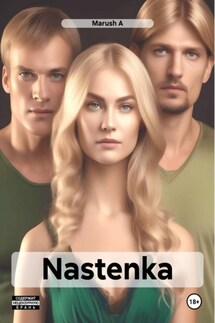Фьямметта. Пламя любви. Часть 2 - страница 29
У колонн крытой галереи, по которой шагал Луис Игнасио, расположились группки малолетних лаццарони-оборвышей. Они, как стайки растрепанных воробьев, нежились в лучах горячего неаполитанского солнца. Мальчишки разных возрастов пытались впрок напитаться теплом, чтобы в злые зимние ночи вспоминать эту ласковую негу и мечтать о скорейшем приходе весны.
Один из них, заметив богатого прохожего, лениво протянул руку за подаянием. Де Велада прекрасно знал: стоит подать милостыню одному, как вся ватага постреленышей ринется к нему, обступит со всех сторон, начнет тянуть грязные руки, дергать за полы жюстокора и галдеть наперебой, надеясь выклянчить подаяние и себе тоже. Не желая увязнуть в подобной сценке, маркиз прошел мимо просящего.
– Su, smamma! Castrato curnuto![73] – полетело ему вслед обиженное и очень злое обзывательство.
Де Велада скривился. Захотелось развернуться и наподдать гаденышу за грязное оскорбление. Но только он попытался сделать это, как того и след простыл. А вместе с ним улетучились и все остальные голодранцы. Сидели, разморившись на солнышке, – и нет их. Испарились, как первые капли дождя, оседающие на раскаленную мостовую.
Луис Игнасио вышел из-под крытой галереи на солнце и чуть было не врезался в торговку, разместившую у одной из колонн лоток со сморившимися на солнцепеке морскими гадами. Обошел женщину по дуге и вздрогнул, когда за спиной она прокричала зазывалку:
– Cozze, jammere, ammazzancolle, vongole niro, zeppole, ustrice, calamare, purpette, cappe sante, scampi, rapani, codi di rospo[74].
Своим криком громкоголосая неаполитанская матрона могла бы перекрыть гогот всех капитолийских гусей[75]. Словно бы в состязание с ней вступила другая, разместившаяся с лотком чуть поодаль, но торгующая тем же товаром. Стараясь перекричать соперницу, она принялась громко и выразительно перечислять свой залежалый товар.
Первая перестала зазывать покупателей и принялась бранить вторую за то, что она якобы из вредности встала в том же переулке, желая досадить за какую-то давнюю обиду. Вторая не осталась в долгу и приложила первую крепким словцом:
– Sciù p' 'a faccia toja! Stupito streca![76]
– Frenare le passioni, viecchia putecarella![77] – ответила первая.
– Arretìrate, pireta vecchia! Nun fà pìrete a chi tene culo![78] – крикнула вторая.
– Chiav’t a lengua ‘ncul, zoccola![79], – подняла градус перебранки первая.
Далее последовал обмен еще бо́льшими «любезностями», коих обе торгашки вовсе не стыдились. Неаполитанки ругались смачно, со вкусом и пониманием этого дела. Видимо, несильная предполуденная жара не отбила у них желания задать сквернословную работу языку и мозгу.
– Vipera![80] – кричала одна.
– Il piu conosce il meno![81] – отвечала другая.
В потоке ругани обе женщины чувствовали себя как те самые гады, когда еще барахтались в прохладной морской воде. Две торговки устроили гвалт, сравнимый с криками целой стаи голодных чаек в порту. Их громкие восклицания могли бы с легкостью посоперничать с возгласами самых наглых из этих шумных пернатых.
– He 'a murì rusecato da 'e zzoccole e 'o primmo muorzo te ll'à da dà mammeta![82] – пожелала вторая.
– Chitestramuort![83] – не сдавала позиций первая.
Опешив от злобного пожелания конкурентки, вторая торговка воскликнула в недоумении:
– Ma te fosse jiuto 'o lliccese 'ncapo?[84]
Первая махнула в ее сторону рукой и выдала: