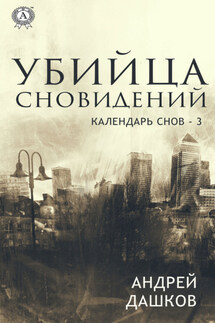Горький и евреи. По дневникам, переписке и воспоминаниям современников - страница 21
<…> «Стахановское движение» было замечательным изобретением, чтобы встряхнуть народ от спячки (когда-то для этой цели был кнут). В стране, где рабочие привыкли работать, «стахановское движение» было бы не нужным. Но здесь, оставленные без присмотра, они тотчас же расслабляются. <…> Я был в домах многих колхозников этого процветающего колхоза… Мне хотелось бы выразить странное и грустное впечатление, которое производит «интерьер» в <…> домах <колхозников>: впечатление абсолютной безликости. В каждом доме та же грубая мебель, тот же портрет Сталина – и больше ничего. Ни одного предмета, ни одной вещи, которые указывали бы на личность хозяина. <…> Конечно, таким способом легче достигнуть счастья. Как мне говорили, радости у них тоже общие. Своя комната у человека только для сна. А все самое для него интересное в жизни переместилось в клуб, в «парк культуры», в места собраний. Чего желать лучшего? Всеобщее счастье достигается обезличиванием каждого. Счастье всех достигается за счет счастья каждого. Будьте как все, чтобы быть счастливым.
<…> В СССР решено однажды и навсегда, что по любому вопросу должно быть только одно мнение. Впрочем, сознание людей сформировано таким образом, что этот конформизм им не в тягость, он для них естествен, они его не ощущают <…>. Действительно ли это те самые люди, которые делали революцию? Нет, это те, кто ею воспользовался. Каждое утро «Правда» им сообщает, что следует знать, о чем думать и чему верить. И нехорошо не подчиняться общему правилу. Получается, что, когда ты говоришь с каким-нибудь русским, ты говоришь словно со всеми сразу. Не то чтобы он буквально следовал каждому указанию, но в силу обстоятельств отличаться от других он просто не может. Надо иметь в виду также, что подобное сознание начинает формироваться с самого раннего детства…
<…>
Эта культура целенаправленная, накопительская, в ней нет бескорыстия и почти совершенно отсутствует (несмотря на марксизм) критическое начало. Я знаю, там носятся с так называемой «самокритикой». Со стороны я восхищался ею и думаю, что при серьезном и искреннем отношении она могла бы дать замечательные результаты. Однако я быстро понял, что, кроме доносительства и замечаний по мелким поводам (суп в столовой холодный, читальный зал в клубе плохо выметен), эта критика состоит только в том, чтобы постоянно вопрошать себя, что соответствует или не соответствует «линии». Спорят отнюдь не по поводу самой «линии». Спорят, чтобы выяснить, насколько такое-то произведение, такой-то поступок, такая-то теория соответствуют этой священной «линии». И горе тому, кто попытался бы от нее отклониться. В пределах «линии» критикуй сколько тебе угодно. Но дальше – не позволено. <…>
И тут в связи с СССР нас волнует вопрос: означает ли победа революции, что художник может плыть по течению? Вопрос формулируется именно так: что случится, если при новом социальном строе у художника не будет больше повода для протеста? Что станет делать художник, если ему не нужно будет вставать в оппозицию, а только плыть по течению? Понятно, что, пока идет борьба, победа еще не достигнута, художник сам может участвовать в этой борьбе и отражать ее, способствуя тем самым достижению победы. А дальше… Вот о чем я себя спрашивал, отправляясь в СССР. «Понимаете ли, – объяснял<и> мне <…> – художник у нас должен прежде всего придерживаться “линии”. Без этого самый яркий талант будет рассматриваться как “формалистический”. Именно это слово мы выбрали для обозначения всего того, что мы не хотим видеть или слышать».