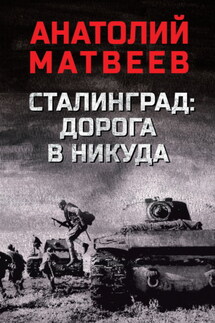Граф Ростопчин. История незаурядного генерал-губернатора Москвы - страница 21
Но в любом случае представляет интерес сравнение «Путешествия в Пруссию» Ростопчина с «Письмами русского путешественника» Карамзина. Николай Саввич Тихонравов, один из первых исследователей творчества графа Ростопчина, провел такое сопоставление и сделал однозначный вывод в пользу нашего героя. «Путешествие в Пруссию», по его мнению, стало более значительным произведением, чем сочинение будущего историографа.
Николай Михайлович Карамзин старательно следовал законам сентиментального жанра. Отправившись в заграничное путешествие, его литературный герой еще не успел проехать через городскую заставу, как уже предался сильной грусти от расставания с отчим краем, родными и близкими, а сочинитель на нескольких страницах изливал «нежнейшие свои чувства» и «выплакивал сердце»[30].
Видит бог, для Николая Михайловича Карамзина было бы полезнее, если бы Ростопчин своими заметками подтолкнул бы его к написанию «Писем русского путешественника», а не наоборот. Ибо тогда был бы шанс, что Карамзин взял бы на вооружение слова нашего героя: «Он объяснил свои чувства простым языком; но простое красноречие выразительно»[31].
А сравните описания городов. Вот путешественник Карамзина приближается к Цюриху. «С отменным удовольствием подъезжал я к Цириху; с отменным удовольствием смотрел на его приятное местоположение, на ясное небо, на веселые окрестности, на светлое, зеркальное озеро и на красные его берега, где нежный Геснер рвал цветы для украшения пастухов и пастушек своих; где душа бессмертного Клопштока наполнялась великими идеями о священной любви к отечеству, которые после с диким величием излились в его “Германе”; где Бодмер собирал черты для картин своей “Ноахиды” и питался духом времен патриарших; где Виланд и Гете в сладостном упоении обнимались с музами и мечтали для потомства, где Фридрих Штолберг сквозь туман двадцати девяти веков видел в духе своем древнейшего из творцов греческих, певца богов и героев, седого старца Гомера, лаврами увенчанного и песнями своими восхищающего греческое юношество, – видел, внимал и в верном отзыве повторял песни его на языке тевтонов»[32].
Что и говорить, за этими строчками видишь жадного до впечатлений, google-опытного путешественника, на подъезде к Цюриху уткнувшегося в iPad. Но во времена Карамзина переносных компьютеров точно не было. А потому от его сочинения веет пыльными справочниками и кабинетной затхлостью.
Насколько же ярче слова Федора Васильевича Ростопчина: «Город Цилинциг мал, дурен и ничего не заключает примечания достойного; в нем, так как и во всех немецких маленьких городах, лучшие строения – ратуша, кирка и почтмейстеров дом»[33].
Не Карамзин, а Ростопчин почувствовал и предвосхитил русскую словесность. Только что приведенная цитата для нас, читателей XXI века, звучит так же современно, как, например, написанное Ильфом и Петровым. Сравните сами: «В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть»[34].
Возникает вопрос, почему литературный стиль нашего героя стал таким простым, близким к обычной речи, но в то же время изящным? «А потому, – отвечают исследователи его творчества, начиная с Николая Саввича Тихонравова, – что Ростопчин не занимался литературой профессионально, по крайней мере, в период написания “Путешествия в Пруссию”», писал не для публики, а для себя».