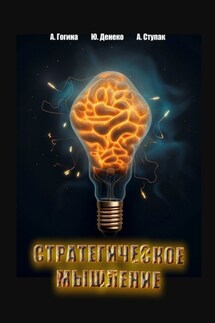Ходорковский, Лебедев, далее везде. Записки адвоката о «деле ЮКОСа» и не только о нем - страница 51
Именно во второй половине 90-х годов начали активизироваться представители силовых структур, имевшие свои интересы в предъявлении предпринимателям налоговых претензий, чаще всего совершенно необоснованных. Касательно тех времен мне вспоминается разговор с начальником следственного отдела налоговой полиции, которого я спросил, как его подчиненные собираются доказывать обязательный в таких случаях прямой умысел в действиях моего подзащитного, привлекавшегося по ст. 199 УК РФ по обвинению в уклонении от уплаты налогов с организаций. Ответ был сколь откровенен, столь и циничен: «Ничего доказывать мы не будем. Направим дело в суд, и будьте уверены – он вынесет обвинительный приговор». При этом полицейский начальник озвучил еще одну, крайне актуальную и до сегодняшнего дня мысль. Он сказал: «Я считаю, что человек с того момента, как он дал согласие стать генеральным директором коммерческой фирмы, должен начинать сушить сухари».
От практики частных наездов «правоохранителей» с целью выполнить требуемый начальством план, попутно по возможности пополнить казну, а заодно подзаработать, к государственной политике «закошмаривания» бизнеса и огульных «посадок» дело подошло к началу 2000-х годов. К тому времени для уголовных репрессий созрели все условия.
Во-первых, это была необходимость ликвидировать последствия созданного самим государством, а точнее – его первыми лицами, дефолта 1998 года. Не удивительно, что взоры ликвидаторов обратились на частный сектор экономики, откуда предстояло взимать в самых различных формах повышенную дань, попутно почему-то регулярно призывая к социальной ответственности. Для нежелающих понимать свою добровольно-принудительную роль «дойной коровы» среди прочих средств воздействия был припасен и Уголовный кодекс как весьма надежное средство убеждения.
Именно с ним связана вторая причина активности разного рода блюстителей экономического порядка (в их собственном понимании), поскольку к этому времени оперативные, следственные, прокурорские органы и суды наработали определенный опыт апробации новых норм уголовного закона. Речь прежде всего идет о таких составах, включенных в специальную главу 22 УК РФ («Преступления в сфере экономической деятельности»), как незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание), незаконное получение кредита, фиктивное и преднамеренное банкротство и ряд других.
Ретивость оперативных сотрудников и следователей очень часть доходила до абсурда, когда они, привлекая человека к уголовной ответственности, даже не пытались задумываться над тем, а обладают ли его действия на самом деле хоть какой-нибудь социальной опасностью, наличие которой требует закон, чтобы говорить о совершении именно преступления. Вспоминаю, что едва ли не первое в Москве уголовное дело о легализации выглядело следующим образом. Предприниматель средней руки имел скромный бизнес, относящийся в то время к числу лицензируемых. Незадолго до очередного истечения срока лицензии он подал необходимый пакет документов в лицензионный орган, но тот выдачу разрешения затянул. В результате коммерсанту около двух месяцев пришлось работать без лицензии. Прознавшие об этом сотрудники милиции возбудили против него уголовное дело о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК в старой редакции), а затем еще и обвинили в легализации (ст. 174-1), усмотрев такие действия в уплате налогов (!) с доходов, полученных за указанные 2 месяца!!