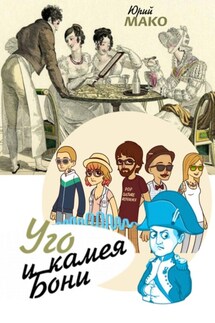Холсты забвения - страница 18
Когда Тамара Григорьевна, обходя ряды, подошла к его парте, она на мгновение застыла, ее обычно добродушное лицо вытянулось и стало строгим.
– Прилукин, – ее голос прозвучал как скрип несмазанной двери. – Это что такое?
Стас вздрогнул, оторвавшись от своего рисунка. Он посмотрел на то, что нарисовал, потом на учительницу, и ничего не ответил.
– Я просила нарисовать «Весеннее пробуждение», – Тамара Григорьевна ткнула пальцем в его мрачный пейзаж. – А это что за похороны? Где весна? Где радость? Одни черные кляксы и уныние! Ты что, не видишь, какая погода за окном? Солнце светит, птички поют!
Стас посмотрел в окно. За ним действительно было солнце, действительно пели какие-то невидимые птички. Но он их не чувствовал. Его весна была другой.
– Я так вижу, – тихо сказал он.
– Так он видит! – Тамара Григорьевна всплеснула руками. – Да от такого «видения» впору в петлю лезть! Прилукин, я уже не первый раз замечаю у тебя эту… нездоровую тягу к мрачности. Твои рисунки пугают! Они депрессивные! Это не искусство, это какая-то патология!
Она взяла его лист, брезгливо держа его двумя пальцами, словно это была заразная тряпка, и пошла к своему столу.
– После уроков зайдешь к директору, – бросила она через плечо. – Я ему покажу твое «весеннее пробуждение». Пусть он с тобой поговорит. Может, ему ты объяснишь, почему тебя так тянет ко всему этому… черному.
Стас почувствовал, как внутри все сжимается. Директор. Это было плохо. Очень плохо. Директор, Николай Петрович, был человеком старой закалки, бывшим военным, и любые отклонения от «нормы» воспринимал как личное оскорбление и подрыв дисциплины. Разговор с ним не сулил ничего хорошего.
Остаток урока Стас сидел, уставившись в одну точку. Он не слышал ни замечаний Тамары Григорьевны, ни хихиканья одноклассников за его спиной. Он думал о том, что его опять не поняли, опять заклеймили, опять сочли ненормальным. И это было уже не просто обидно. Это было страшно. Потому что он начинал бояться, что они правы. Что с ним действительно что-то не так. Что та тьма, которую он видел вокруг и которую переносил на свои рисунки, была не отражением мира, а его собственным внутренним порождением. И она росла, заполняя его, вытесняя все остальное.
4.
Разговор с директором прошел именно так, как Стас и ожидал – если не хуже. Николай Петрович, с его стальным взглядом и голосом, привыкшим отдавать команды, долго и нудно отчитывал его за «упаднические настроения», «негативное влияние на коллектив» и «неуважение к высоким идеалам советского… тьфу ты, российского искусства». Он потрясал перед носом Стаса его «весенним» пейзажем, как будто это было неопровержимое доказательство его морального разложения. В конце концов, он пригрозил Стасу вызовом родителей, постановкой на какой-то там «внутришкольный учет» и, если «это безобразие не прекратится», переводом в школу для «трудных подростков».
Стас вернулся домой совершенно разбитым. Мать уже знала – директор позвонил ей на работу. Ее лицо было каменным, глаза метали молнии. На этот раз она не кричала. Она действовала.
Молча, с какой-то жуткой, методичной решимостью, она вошла в его комнату. Стас сидел на кровати, наблюдая за ней с затаенным ужасом. Он знал, что сейчас произойдет.
Людмила подошла к его столу, к полкам, к тем углам, где он прятал свои самые сокровенные альбомы. Она начала собирать их – все, без разбора. Старые, с детскими еще каракулями, и новые, с его мрачными пейзажами Зареченска, с его тревожными абстракциями, с его искаженными лицами. Она складывала их в большую хозяйственную сумку, ту самую, с которой ходила на рынок.