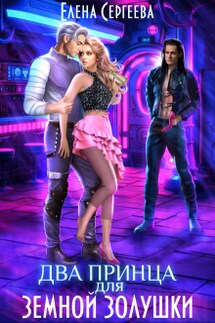Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология - страница 19
Безусловно, переживание художественной ауры во многом протекает как процесс аффективный, телесный, до-рефлексивный. Вот эта способность ауры к моментальному впитыванию того, что рационально может быть обосновано позже в опоре на множество слов и аргументов, придает ауратическому впечатлению особый статус. Ведь и сакраментальный вопрос – существует ли любовь с первого взгляда? – исходит из оценки проницательности именно этой начальной мгновенной вспышки, являющей истину до получения детального знания. Тем самым рождается взгляд на ауру как едва ли не на некую автономию, у которой есть собственная среда обитания и которую никакое усердие «рациональной критики» не способно нейтрализовать. В таком же ключе эта догадка прочитывается и у Пастернака: «И странным виденьем грядущей поры/ Вставало вдали все пришедшее после».
Не приближает ли нас сказанное к выводу, что ауратическое равно соединяет в себе человеческое и космическое? Множество примеров позволяют заключить, что ауратическое соприродно человеческому, ведь вовлеченность в эманации ауры всегда желанна для человека как радость мгновенного самопревышения, броска в сторону неадаптированного, как обещание «повышенной жизни». Одновременно – в излучении ауры явлена концентрация витальной силы, онтологически глубинного и до конца непостижимого.
Расположение человека к незаинтересованному созерцанию, как можно заметить, связано со смутным предположением в самоценности последнего, его причастности органике подспудных ритмов природы. Есть интуитивное ощущение близости созерцания каким-то значительным, магнетичным доопытным состояниям, открытым впитыванию близкочастотных колебаний из внешнего мира. Вот как будто бы факультативная запись из дневника современного французского писателя-эссеиста Кристиана Бобена, наблюдающего за собственными этапами творчества: «Воскресенье, 28 апреля 1996 года. Часами лежу в спальне на кровати и наблюдаю, как ветром колышет портьеру. Кто-то сочтет это занятие – если это можно назвать занятием – унылым или, скажем, меланхоличным. Бывают дела поинтереснее? Ничего подобного. Скорее наоборот: неподвижность тела и трепет занавеса представляют самое удачное выражение радости. После столь насыщенно проведенных часов (да-да, именно так – насыщенно) еще и писать – это почти излишество»[13].
Условие созерцательного отношения – способность зрителя наряду с погружением во внутреннюю интроспекцию непринужденно входить в такт с ритмами внешнего мира. Акт созерцания никто не подгоняет, человек сам определяет его длительность и интенсивность. Важно помнить, что при всей спаянности и органике произведения искусства в него включен неорганический элемент, имя которому – свобода. В нефункциональном восприятии она присутствует сполна, именно потому что все смыслы, инсайты, догадки в процессе созерцания вспыхивают и просачиваются без нажима, без предуготовленности, исподволь. Получается, восприятие в состоянии ухватить какую-либо вещь только при том условии, если до этого оно ощутило себя существующим в самом непреднамеренном акте схватывания, приняло в себя токи наивного контакта с изображением, красками, светом, «зависало» в непосредственном взгляде на вещи до знания о них. Человек, накопивший опыт бескорыстного восприятия, любит не только раскрывающийся перед ним образ, но и само свое чувство к этому образу (состояние в момент созерцания). Ведь последнее значимо как подтверждение способности к самопревышению, преодолению своей единичности, причастности Другому миру, внезапно оказавшемуся близким.