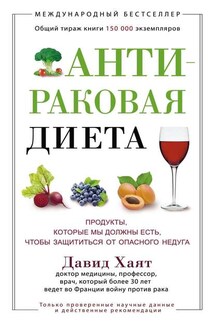Художник и время - страница 2
Но чуть чувства вскачь, и жалость неудержима. У милой бледность и выпирают лопатки… Ах, ах! Принцесса царственно отказывается от преподнесенных апельсинов… И воображение поражено.
Остальные позировали не совсем бескорыстно. Не с такой радостью. Не так… самоотверженно.
– Пустяк? Несомненно.
А как постигается красота солнца. По капле, блестящей на зелени. По золотым зайчикам. По яркой радуге. Весь свет не в состоянии вместить. Жмурятся, жмурятся, но не сомневаются, что источник света есть!
Души тоже не обнаружить иначе, чем по жгучему счастью. Душа украшает каждый шаг. Светится в поступках. В каждом жесте. В каждом побуждении.
Можно прожить бок о бок всю жизнь, не распознав сокровенного у близкого человека. И можно открыть эти тайники при первой же встрече.
Есть цветы, что распускаются навстречу заре. Есть расцветающие ночами. Но нет таких, что выдергиваются из бутона нетерпеливыми пальцами. Сердца также открываются не всегда и не всем. И если вам посчастливилось, нужно быть осторожным. Они нежнее цветов…
Художник рассуждал. Восторженный. Завороженный. А ресницы скромно теснились у глаз, указывая вниз. Словно извиняясь, что дали заглянуть в заветное, отделенное от появления мысли миллионами лет.
У запретной черты
Смеркалось. Но Люся не соскакивала с верстака, а страницы детства листались хозяином без устали.
– Учили по Чехову. Рассказывать связно: висит на стене двустволка – стало быть, выстрелит. Но разве постигнута связь событий? Разве известны следствия самых-разсамых пустяков?
В арсеналах сознания оказывается всякая всячина, без заметной связи и назначения. Притронешься и… взорвется! Самым непрошенным образом. Пронесло первый раз… нет гарантии на завтра и послезавтра. Просто время не пришло до поры. Вытряхивать торбу пережитого подряд, без разбора, и проще и предусмотрительней, следовательно. Мало ли…
Поля исчезла. Осталась с той стороны двери. В запретном мире. С клопами. В неумолимом «нельзя».
На улицу было «нельзя» – «хулиганы». В столовую… был день, не пускали и в столовую. Потому и запомнился, что не пускали.
Взрослые сидели, к моему великому удивлению, прямо на полу. У стены, разрисованной розами. Розы с голову. Красные-красные. Высоко, низко – везде. Взрослые сидят. У всех слезы. А стол белым застелен. В глубине, в углу, постель. Рвусь взглянуть – оттаскивают:
– Ш-ш-ш… дедушка умер.
Но меня не унять:
– Сами с ним. Около. Пусть… Пусть… Плачьте! – И давясь от обиды: – Не б-буду! Не б-буду! По бабушке буду, а теперь н-нет!..
Деда не довелось видеть. Не пустили. Не показали. Но набросок под стеклом, в спальне, надолго остался в глазах: усатый и спит. Посмертный набросок и розы на стене – дело дядюшки-художника. Из самой Москвы. Ежегодно приезжал.
Да, деда я не видел. Зато сад, что посадил, всегда находился рядом. Весною осыпал цветом. Летом прятал в тени, качал на лапах яблонь, наполнял зеленым и спелым желудок.
Без сада не мыслю себя. Сад нес радость. Украшал сердце добром. Становился наставником. Оставался утешителем. Долго-долго…
– Художникам не до еды, когда трудятся? – заинтересовалась Люся.
– Не до еды? – «Само собой» – донеслось из детства.
Затем взрослого осенило:
– Стемнело совсем. Устали столько сидеть, проголодались?
– Сидеть? Удовольствие! Это вам трудно… работать.
– Сидеть удовольствие! Сидеть удовольствие! – трезвонила радость.
Живописец чувствовал себя принцем. Разглядевшим, открывшим Золушку. Прозорливость из завидных! Прозорливость… Продлить сладость болтовни около милой, не заметить темноты – великой догадливости не требовало. Принц перерыл в черепной коробке все содержимое – догадливости не оказалось. Понуро вытер палитру. Заторопился прибирать краски.