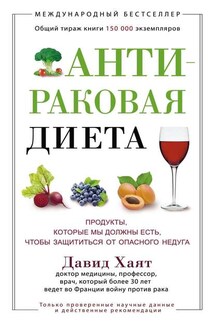Художник и время - страница 3
Золушка утешала, что постарается прийти завтра. Она разрешила, позволила себя проводить. Радости принца не было предела. В принципе, он не провожал прежде. Натурщиц не провожал. А принцессу – рвался.
– Пожалуйста… – Пальто попало на плечи. Тяжелое. Неуклюжее. По жилам побежала нежность. Зеленые пальцы поднялись к локонам. Помедлили…
– Шапочка – сложное совершенство! – шептало восторженно воображение.
Лицо стало еще круглее, еще одухотвореннее на бледном стебельке шеи!
В принципе, нет ничего глупее круглых лиц. Но разве любви есть дело до принципов? Разве она считается с ними?
Красавице положено иметь правильные черты, нежный живой цвет кожи, стройную, пропорциональную фигуру, одетую по моде… Всем остальным отклонение от эталона компенсируется универсальным комплиментом: «Очень мила». И лепят последний к делу и не к делу.
Правда, художник уверял, что нет единого типа красоты. Что разновидностей столько, сколько существует носов на свете. Что к каждому носу, соответственно, можно разыскать недостающее и тем самым создать совершенство. Но разбираться в красоте и чуметь от очарования – разные вещи. Обожающему женщину не суждено рассуждать. Даже в Возрождение великий Да Винчи склоняется около пожилой, ожиревшей Джоконды. Непостижимо?! И все же: известностью компенсируется все.
Живопись осваивают не сразу: с мастерством растет возраст. С возрастом исчезает вкус – ведь совсем не всякая заинтересуется седовласым!..
Хозяину повезло. Золушка оказалась молодой. Соблазнительно молодой. Монгольские скулы делали лицо миловидным. Круглым, словно солнце. Крыльями парили на просторе. Глаза разлетались далеко-далеко. Лоб был выпуклым и светлым: ни следа волнений, ни соринки переживаний. Овальные линии закругляли подбородок, опускали уголки губ, заставлял нос отступить от эллинской прямолинейности. Правда, оригинальности ради, не овал, а угол рекламируют верхом совершенства. Но… пилы не целуют.
Волнует округлое. Увлекает ласковое. Светлая Золушка! Желание нежно болтать она сочетала с завидной способностью слушать. Отсутствие особых вокальных данных компенсировала безотказной готовностью петь. И всякое свидание считала предпочтительнее скучищи одиночества. Словом, причин для заключения: «Очень мила» – хватало.
А на улице похрустывал наст, и легкие туфельки старательно выводили соло. Широкие башмаки внушительно, не спеша вторили. Сверкали, зазывая, магазины. Прилавки лоснились колбасами всех сортов. И слюна снова и снова выступала, словно на бис. Башмаки сокрушались, что не разрешают выпотрошить кошелек. Туфельки оставались непреклонными. Голод забылся, уступил место счастью.
И в тряском трамвае. И в быстром метро. Они были вместе. Вчера повстречавшиеся. И казалось естественным… не расставаться. Только у электрички, очнувшаяся порядочность запричитала, настаивая брести обратно: «Жена ждет!»
«А как же Золушка? Одна! Ночью!» – мучилось чувство. Лапы глупо топтались около ожидавшей решительного шага подножки. Лицо вытянулось. Переступать запретного не разрешалось с самого раннего возраста. Выработался рефлекс.
– Глуп! – хлопнули в сердцах двери.
Пронзительное: «Тр-у-у-у-у-с…» пронеслось по рельсам и растворилось во мраке.
Послушный зашагал к домашней всегдашности.
– Что есть смелость? – тоскливо попискивало в носу. – Поиск радости всеми средствами или отказ от соблазнов?
– Смотря по обстоятельствам, – скрипел снег. – Смотря по обстоятельствам.