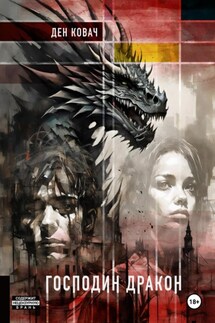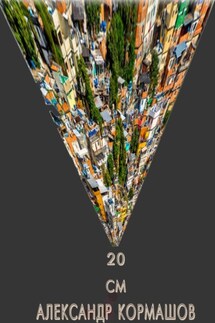Иноагенты. Лишние среди своих - страница 4
Все ждали, что она скажет что-то великое. Но она ничего не сказала.
Вечером она вернулась домой. Разделась. Зашла на кухню. Открыла холодильник – там было почти пусто. Взяла бутылку воды. Села у окна.
На телефон пришло письмо. От старого фаната. «Вы не обязаны быть героем. Просто спойте. Пожалуйста». Она прочла. Удалять не стала. Но не ответила.
Где-то за стеной кто-то включил старую её песню. Она слышала. Сидела тихо. Не пела вместе.
На полке стояли записи – альбомы, винил, книги, фанатские письма. Она взглянула. И не подошла.
Ночь в Париже была ровной. Без молний. Просто чёрной. Она потушила свет. И осталась внутри тишины, в которой когда-то жил её голос.
3. Рыцарь контента
Он родился в середине восьмидесятых – ровно между исчезновением комет и появлением интернета. Первую правду он услышал в школьной столовой – от повара, которая сказала: “Котлета есть, но по бумаге – плов.”
С тех пор он верил только в то, что можно зафиксировать на видео. А лучше – в 4K.
Квартира была съёмная. Слишком чистая, чтобы в ней кто-то жил по-настоящему. Белые стены. Светильник на штативе. Стул, похожий на недоделанный трон. За кадром – ноутбук, камера, два микрофона-петлички, график загрузок и ссылка на Dropbox.
Он крепил микрофон на воротник парню, который приехал из Харькова, доучивался в Вильнюсе и мечтал когда-нибудь создать «самую прозрачную блокчейн-экосистему для гуманитарных транзакций».
Он не перебивал. Кивал. Вставлял “угу” и “да” на нужной частоте, чтобы нейросеть потом правильно разметила эмоции.
Парень говорил о свободе, о страхе, о пустом небе над вокзалом. О том, как мама не узнаёт в голосе Skype-соединения своего сына. О том, как хочется быть полезным, хоть немного.
Он слушал. Смотрел. Записывал. Но сам не присутствовал.
Когда съёмка закончилась, он выключил микрофоны, сложил технику, налил себе воды из графина. На столе загорелся экран. Комментарии к вчерашнему выпуску:
«Ты наш голос. Спасибо, что остался с нами.»
«Сильная серия. Держит до последнего кадра.»
«Когда ты вернёшься домой?»
Он прочитал. Без улыбки. Как читают инструкцию к уже собранной мебели. Он проверил аналитику: удержание аудитории – 67%, глубина просмотра – высокая, отписок – почти нет. Можно было жить.
Ночью он не спал. Просто сидел у окна с дешёвым виски и ноутбуком. Открыл черновик сценария следующего фильма: “Эмигрантская усталость: почему уехавшие улыбаются в камеру, но молчат по утрам”.
Над заголовком он думал два дня. Вставил первую строчку: иногда легче записать чужую боль, чем признать свою. Удалил. Написал: Ты здесь не герой. Ты флешка.
Он открыл почту. Среди писем – одно, старое. От матери.
“Сын, я понимаю. Я правда понимаю. Но может, ты просто приедешь? Не для эфира. Не для подписчиков. Просто так. На чай.”
Он начал печатать ответ. Стер. Начал снова. Потом просто закрыл вкладку. Письмо осталась в черновиках. Под заголовком: Мама.
Утром он снова готовился к съёмке. Новая локация, новый герой. Тот же свет. Тот же вопрос под занавес: – Ты веришь, что всё изменится? Гость помолчал. Пожал плечами.
Он кивнул. Выключил запись. Остался сидеть. И прошептал – не в камеру, а себе: “Главное, чтобы не выключали.”
4. Проповедник света
Он стоял на сцене под светом, который не слепил. Свет был технологичным, тёплым, профессиональным. Такой свет не рождает откровений – он подчёркивает структуру речи.
За его спиной, на огромном экране, медленно менялись слайды: