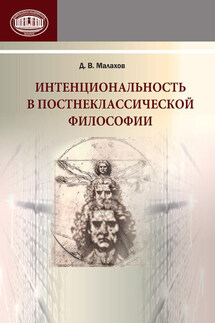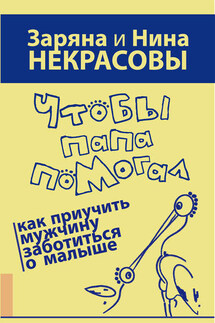Интенциональность в постнеклассической философии - страница 17
Весьма неожиданное и нетривиальное видение существа феноменологической редукции предлагает Борис Гройс. В его толковании феноменологическая редукция уподобляется своеобразной аскезе ума, выполняющего в сфере онтологии специфически религиозную процедуру. Данная процедура заключается в том, что интенциональное сознание дистанцируется от мира сущего, но вместе с тем охватывает его в собственном переживании трансцендентальной значимости и конституировании идеальной предметности, наподобие того, как Бог-Творец в учении Каббалы расступается в Самом Себе, создавая мир, по отношению к которому остаётся полностью трансцендентным (говоря о полной трансцендентности, следует иметь в виду именно онтологию, а не возможность Откровения, являющегося актом свободного и прямого доступа Бога-Творца в мир человека). Сознание, таким образом, словно бы отступает перед миром естественной установки, образуя дистанцию, «которую Хайдеггер определяет как онтологическую дифференцию и помещает в само бытия» [39, с. 213][3].
Предлагаемая Гройсом интерпретация представляется важной вследствие содержащегося в ней указания на возможность размыкания конечного сознания из потока и схем представлений и репрезентаций в актах или процедурах[4], подобных тем, что совершает Бог-Творец в отношении Себя и творения. Примечательно также, что Гройс склонен рассматривать порядок кенозиса Логоса-Христа по образу феноменологических процедур осуществления интенционального сознания, в отношении которых Бог-Творец совершает своего рода освобождающее действие: «… вторично совершает акт аскезы, редукции и эпохе и открывает человеку возможность единства за пределами как сознания, так и мира» [39, с. 213].
По всей видимости, Гройс не вполне различает понятия Божественных “самоограничения” и “самоумаления”, которые в патристике эксплицируют специфику действований соответственно Первого и Второго Лиц Св. Троицы в отношении акта творения. Тем не менее предлагаемая идея аскезы вполне соотносима с принципами феноменологии Гуссерля, согласно которым образование чистого сознания трансцендентального Я не является естественным процессом самообнаружения в эмпирической реальности, но выступает в виде волевого возобновляющегося и всегда до конца непостижимого усилия. Действительно, согласно Гройсу, «аскеза не открывает нам наше место в мире – она впервые создаёт, порождает его» [39, с. 212][5].
Взгляд на “аскетический” идеал феноменологического рождения трансцендентального Я в процедурах эпохе и редукции, т. е. “Я”, берущего на себя бремя абсолютной ответственности за собственное бытие и бытие мыслимого им сущего, разделяется испанским философом и теологом Хавьером Субири, который предложил идею “реалистической феноменологии” [136] и отстаивал метафизическую позицию материального существования мира ценностей, в корреляции с которым и протекает интенциональная жизнь сознания. Признавая главенствующую роль реального существования мира и человека в естественной установке сознания, Субири связывал феноменологическую редукцию с онтологическим обогащением и аксиологическим преизбытком существования “Я” феноменолога:
Речь идёт не о том, что я, будучи реальным сущим, существую в мире, значимость которого ставится для меня под вопрос. Речь о том, что я сам как реальный мыслящий субъект, принадлежащий миру в своей реальности, оказываюсь поставлен под вопрос именно в том, что касается моего свойства быть реальным, и предстаю перед самим собой как мыслящий, очищенный от всякой реальности, не имеющий других примет, кроме того, что являю собой… феномен “якости”… Речь идёт… о том, чтобы продолжать жить миром и в мире, но, живя в нём, занять особую позицию: поставить под вопрос действительность веры в его реальность. Не отрицать эту веру, что означало бы заменить одно верование другим, а лишь поставить под вопрос её действительность, воздержаться от неё [135, с. 158].