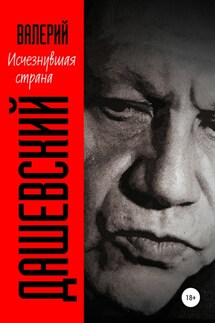Читать онлайн Валерий Дашевский - Исчезнувшая страна
Об авторе
Писатель, публицист. Дебютировал в 80-е, в журнале «Юность», книгой стотысячного тиража. Рекомендован в члены СП СССР Секретариатом Правления СП СССР, Григорием Баклановым, Владимиром Маканиным, но за отказ сотрудничать с КГБ не был принят.
Выпускник Литинститута им. А. М. Горького в Москве, спецкорреспондент, с 1984 г. руководил секцией прозы весьма многочисленного Комитета литераторов при Литфонде СССР, защищая права молодых писателей.
В 1989 году создал первое в СССР Всесоюзное общественно-политическое обозрение «Ориентир ДиП» (Харьков–Москва), в редколлегию которого вошли Е. Евтушенко, видные депутаты ВС СССР, вице-президент Украины.
Создал в Харькове (Украина) независимое информационное агентство при АПН СССР, работавшее на 16 посольств ключевых стран мира; руководил конверсионными проектами, был в США – в Пентагоне, Сенате, Конгрессе; сопровождал выборы президента Л. Кравчука в Украине, президента Б. Ельцина в Москве, награжден его персональной благодарностью.
В СМИ был загранпредставителем Агентства печати «Новости» в Украине, генеральным менеджером РТВ-Пресс РФ, генеральным менеджером медиа-проектов Союза экспортеров энергии РФ, менеджером журнала «Огонек».
Руководил в Украине проектом национального издания и тремя проектами, поддерживаемыми Всемирным банком. Специалист Минфина РФ 1-й категории по ценным бумагам и фондовому рынку. С 1996 г. топ-менеджер в строительно-инвестиционном бизнесе (девелопмент) в Москве, руководитель крупных и крупнейших проектов.
С 2012 г. живет в Израиле, печатается в Канаде, США и Израиле, автор книг, экранизирован. Член Международного ПЕН-Клуба.
Пока лошадка поскачет
Ей ни за что не дашь ее двадцати семи; в последние полгода она замечательно похорошела, а по сравнению с тем, какой была четыре года назад, стала просто красавицей. Четыре года назад – зимой – она приходила к нам советоваться, как похудеть. Весила она семьдесят восемь восемьсот при росте в сто семьдесят девять сантиметров – не так много, нам и в голову не приходило, что Лида стеснялась своей полноты не меньше, чем румянца, чудно было, что она придавала этому такое значение. И мы – разумеется, мягко – втолковывали, что ей куда важнее научиться одеваться. Она окончила экономический факультет университета и отработала положенные три года в банке, вернее, в Коминтерновском отделении Госбанка. Она была блондинкой, рослой, голубоглазой, крепко сбитой и родившейся слишком поздно – к тому времени, когда ей исполнилось двадцать, французские, итальянские, американские фильмы необратимо изменили наши вкусы. С Лидой пытались знакомиться мужчины, которым перевалило за сорок. Их не останавливало то, что у нее румянец во всю щеку.
Незадолго до окончания университета мать ее поскользнулась на троллейбусной остановке, и Лида стала человеком, на котором держится дом. Их квартира до жути напоминала те, какие мы привыкли видеть, и наши собственные. В довоенных домах не меняли ни рам, ни подоконников, ношеные вещи хранили на антресолях, моющие средства и половые тряпки – под ванными, а кухонные – на радиаторах батарей. Так жили независимо от достатка в семье, а семья Лиды была с достатком, во всяком случае, по нашим представлениям. Ее отец был директором объединения банков всего города, пока не ушел на пенсию. Это был шестидесятилетний мужчина, рослый и, несмотря на возраст, быстрый в движениях, с бритой массивной головой, немногословный, аскетически сдержанный во всем, кроме увлечения подледным ловом удочками, за которые он три года кряду получал призы городского общества рыболовов и охотников, пока не заболел ревматизмом. Он раньше всех понял, что его жена из тех больных, которые болеют вечно, и, будучи человеком, не окончательно утратившим вкус к жизни, решил не поддаваться общему настроению, воцарившемуся в доме. Раз в неделю он наведывался в комнату жены и справлялся о ее здоровье, но не более того. Свою зарплату, а впоследствии пенсию он отдавал Лиде почти целиком, оставляя себе столько, сколько требовалось на покупку макухи, мотыля, опарышей и на проезд в электричке. Мы удивлялись, отчего Камышевы до сих пор не купили машину, не зная, что разговор об этом произошел в их доме в тот самый день, когда Лида перешла на последний курс. В то время мать Лиды большую часть дня проводила в очередях продовольственных магазинов, а не лежала, обложившись подушками, в сумраке и в запахе лекарств.
– Заславские купили «Москвич». Стоит внизу, я его видел, – сказал директор банка. – Хотите взглянуть?
– Зачем? – сказала его жена. – Что я, «Москвич» никогда не видела?
– А ты? – спросил директор банка Лиду. – Тоже не хочешь на него посмотреть? Хорошая машина.
– Только не сейчас, – сказала Лида. – Позже, если это доставит тебе удовольствие, я осмотрю его самым тщательным образом, папа.
– Я подумал, вдруг вы захотите иметь такой, – сказал директор банка.
– И что, у тебя есть деньги и на машину, и на гараж? – спросила его жена.
– Какая тебе разница. Я просто хочу знать, хотите вы иметь такой или нет.
– Нет, – сказала его жена. – Лично мне он и даром не нужен. Вот, может, Лида хочет.
– Нет, – сказала Лида. – Я, пожалуй, тоже обойдусь.
– Смотрите, вы сами сказали, – сказал директор банка.
Он повернулся и вышел из кухни, в которой происходил разговор. Прошло пять месяцев, и мать Лиды поскользнулась, выходя из троллейбуса. Она упала на спину и повредила позвоночник так основательно, что не могла ходить, как выяснилось позже. Кроме того, позже выяснилось, что Лида может ухаживать за матерью не хуже любой медсестры. Она быстро научилась делать уколы, мерить давление, втирать мазь в пролежни и могла не спать ночь напролет, а если и засыпала, то спала очень чутко – мать будила ее стуком в стену, если ей становилось нехорошо. По сути дела, Лида была единственным человеком, с которым общалась мать. Когда Лида шла в гости к кому-нибудь из своих подруг, мать спустя час или два звонила в этот дом и просила Лиду вернуться. И Лида возвращалась.
Когда мать слегла, Лида сильно похудела. Одного взгляда в зеркало было достаточно, чтобы убедиться, как она сдала. И вместе с тем она похорошела. У нее обозначилась талия, стали тоньше руки, и лицо сделалось более женственным – в этом смысле болезнь матери пошла Лиде на пользу. Правда, Коминтерновское отделение Госбанка было не тем местом, где молодые люди могли бы оценить происшедшую в ней перемену. Лиде никогда не приходило в голову намеренно искать общества молодых людей. В университете на нее как-то не обращали внимания, а иного места для знакомств в ее представлении попросту не существовало. Она не ходила на танцы в Центральный парк и, конечно, не посещала бар на площади. У нее хватало забот и без бара, к тому же она часто оставалась без денег. Просить у отца она не хотела. Она не была уверена, что у отца есть другая женщина, но вечерами, сидя в кухне, в зыбком, недвижном свете, источаемом лампой под потолком, и глядя на твердый затылок, на тяжелую, наголо обритую голову отца, она чувствовала, что не может завести разговор о деньгах. Этот человек, чья беспримерная честность сделала его фамилию нарицательной среди сотрудников всех отделений города, а в нем самом породила аскетизм, отнюдь не свойственный ему в молодости, в те дни внушал ей острую, непреодолимую неприязнь.
Когда его жену выписали из больницы со смещением седьмого и восьмого позвонков, он отодвинул ее кровать от своей и поставил между ними тумбочку с лекарствами. Иногда он возвращался домой поздно и тогда молча раздевался, шел на кухню, мягко ступая по линолеуму ногами в шерстяных носках, брал то, что дочь оставляла ему на плите или в холодильнике, и ел неторопливо, глядя в одному ему видимую точку на оконном стекле. Он не спрашивал Лиду, где она проводила вечера; со времени болезни матери каждый в их доме отдавал отчет только самому себе.
Лида приходила к нам обычно на полчаса, а то и на час раньше назначенного времени, клала под вешалку сверток со своими выходными туфлями, снимала пальто, о котором мы говорили, что оно куплено было ей на вырост, и тотчас отправлялась на кухню, будто ее пригласили затем, чтобы заправлять салаты майонезом, вскрывать консервные банки, а после расставлять фужеры, раскладывать салфетки и снова бежать на кухню, если кому-то из нас не хватило вилки. Она усаживалась за стол непременно последней, в одном из своих немыслимых платьев, c румянцем во всю щеку, который не согнать было ни тяжелым, немигающим взглядом отца, ни стуком в стену среди ночи. Ее никогда не провожали – она уходила слишком рано; Леша Гладков был первым и единственным из нас, кто поднялся из-за стола следом за ней.
Никто из нас в тот вечер не дал себе труда задуматься, что заставило Лешу Гладкова отложить гитару и отправиться с Лидой на тридцатиградусный мороз, придерживая ее за локоть. Вероятно, он воспользовался уходом Лиды, как поводом избавить себя от нашего общества и заодно прогуляться. С самого начала, с первого дня своего возвращения в город он чувствовал себя среди нас чужим. Он учился в Щукинском училище, приехал на каникулы к матери и выглядел очень усталым. Он пил, не пьянея, пел:
Прошел тишайший снегопад —
На ветках новая пороша.
Мир стал заманчиво-хорошим,
И просветлел любимый взгляд.
Прошел тишайший, тишайший снегопад…
Когда мы спросили, чья это песня, он ответил: моя. И отвернулся. Ростом он был по-прежнему выше каждого из нас – высокий, сутулый, полный нездоровой, рыхлой полнотой; он сидел, положив на стол по-женски белые руки, и лицо его было матово-белым, словно светилось изнутри.
Мать Леши, в прошлом балерина, вела студию хореографии в городском клубе работников связи. Мы часто встречали ее, когда Леша отбыл обратно в училище, совершавшую вечернюю прогулку в сопровождении Лиды. Женщина шла рядом с Лидой, зябко кутаясь в блестящий плащ, тени и пудра лежали на ее лице таким же плотным слоем, как, вероятно, грим в былые времена.
Нам говорили, что в училище Леша Гладков считался актером с будущим, но нам в нем было чуждо всё: профессия его матери и его собственная, квартира, оклеенная театральными афишами спектаклей, сыгранных задолго до нашего рождения, его бледное лицо, сочетавшее в себе надменную утонченность, ум, усталость и полнейшее равнодушие ко всем нам, его речь, обезличенная правильностью, не всегда понятная нам и временами звучавшая, как скрытая издевка.
С той минуты, как Леша увидел Лиду, он пробыл в городе сутки; сутки потребовались ему, чтобы проводить Лиду со дня рожденья Нины Салажной, условиться с Лидой о встрече, привести ее на следующий день к себе домой, а после ее ухода сложить вещи в чемодан, выйти на улицу, остановить такси и успеть на московский поезд, отправлявшийся в 22:30. И мы позабыли о нем. Лида продолжала работать инспектором Коминтерновского отделения Госбанка, ее отец выиграл приз за подледный лов – второй по счету, а ее мать продолжала подробнейшим образом расспрашивать нас по телефону, о чем мы собираемся говорить с ее дочерью и не надо ли чего передать. В ее голосе мы слышали желание беседовать с каждым из нас как можно дольше.
Лиду, гуляющую по улице об руку с мамой Леши Гладкова, мы впервые увидели весной. Снег к тому времени почти стаял, и обе они медленно обходили черные лужи талой воды. Раз в неделю Лида приходила к Гладковым, убирала в комнате Леши, а потом брала с полки первую попавшуюся книгу – будь то Аполлинер или пьесы Ануя – и читала часами, сидя в продавленном кресле и подобрав под себя ноги. Когда темнело, они вместе с матерью Леши выходили из подъезда, и немолодая, преждевременно увядшая женщина шла рядом с Лидой, поминутно отставая и улыбаясь слабой улыбкой, как выздоравливающая больная. Потом Лида возвращалась домой, ужинала, брала тарелку с едой и мазь от пролежней и отправлялась в комнату матери. Весной они с отцом сказали друг другу едва ли двадцать слов.