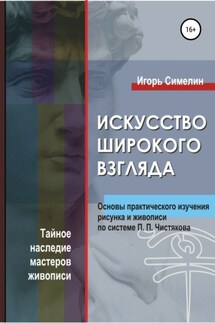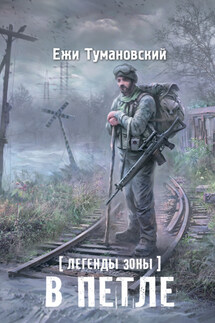Искусство широкого взгляда. Основы практического изучения рисунка и живописи по системе П. П. Чистякова - страница 7
– Свободно? – спросил кто-то.
Я оглянулся. Передо мной стоял Конотопов. На его лице расплылась дружеская улыбка. Я был крайне удивлен его неожиданным появлением. Конотопов, не дожидаясь моего приглашения, занял место и серьезным тоном спросил:
– Что с тобой? Дружище, на тебе лица нет! Ты не заболел?
– Я совершенно здоров, просто из-за долгой прогулки по городу очень устал. Еще удивлен неожиданной встречей с вами, – улыбаясь, сказал я.
– А ты рад? – с улыбкой спросил Конотопов.
– Еще бы!
– Ну, здравствуй! – смеясь, сказал учитель, и мы пожали друг другу руки.
– А ты почему без этюдника? – неожиданно спросил он.
Я не понимал, шутит он или говорит серьезно, и с недоумением посмотрел на него.
– Гулять надо с этюдником, – мягко промолвил Конотопов и продолжил: – Посмотри, какая красота за окном.
Мы ехали по живописнейшим местам Владимиро-Суздальской земли. Солнце еще не коснулось горизонта. Его золотистые лучи освещали грозовые облака, нависшие над дорогой. За окном, у дороги мелькали деревья с молодой листвой, за ними до самого горизонта тянулись озимые поля, набегающие на охристые холмы с синеватыми в вечерней дымке деревьями.
Пока мы ехали, у нас состоялась беседа, от которой я очень много подчерпнул для себя.
Я спросил учителя, как ему удалось за короткий срок убедить большую часть группы учеников перестроиться на работу с большими отношениями при широком взгляде, ведь все привыкли работать по общепринятому способу. В ответ Конотопов привел в пример рабочего на конвейере, который в течение долгого времени выполняет действие забивания гвоздей.
– С каждым разом у рабочего получается все точнее и точнее. Его действия уже дошли до автоматизма. Человек забивает гвоздь с одного удара точно и до конца – это предел данного действия, но не предел человеческого развития. Но этим действием человек сам себя ограничил. Та же ограниченность присутствовала и в ваших первых работах, – сказал Конотопов и продолжил: – Моя задача как учителя состояла в том, чтобы остановить вас, как заблудившихся путников, вернуть назад и дать вам новое направление.
Конотопов сказал, что вся сила настоящего искусства в правде, главное, не врать себе и окружающим. Достаточно посмотреть на все беспристрастно и также показать.
– Применимы ли чистяковские понятия к другим методикам?
– Думаю, что нет. Потому что чистяковские интерпретации без практического применения бесполезны и пусты. А с практиками других методик они не совместимы. Хотя некоторые коллеги художники-педагоги часто пользуются чистяковскими определениями формы при учебном процессе.
– Как же они могут ими пользоваться, если понятия системы Чистякова не соответствуют их собственному знанию?
– Применяют и с большим удовольствием! – с усмешкой сказал Конотопов и продолжил: – Для них слова Чистякова звучат красиво. Но подлинное значение этих слов им не доступно, так как они понимают Чистякова в рамках своего знания.
– Например?
– Тогда как Чистяков говорит о большой форме как о системе трехмерных объемов взаимопересекающихся в отношении между собой плоскостей, для наших коллег понятие о форме заключается в линейно-конструктивном аспекте. Обрати внимание, все их учебные работы в рисунке похожи на техническое черчение от руки, а живопись, которая не имеет строгого рисунка, тянет на богатую палитру. Композиция и техника – основа и главная задача их творчества. В учебном процессе они ставят натуру в сравнении с геометрической фигурой, а свет и тень рассматривают как пятна. В их творчестве форма – это образ. Слишком уж условное отражение действительности, где образ как внешняя оболочка, а в ее техническом исполнении подразумевают состояние. Посмотри, как техничны их работы.