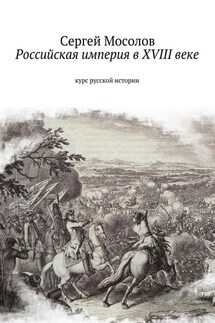История казачества. Памятка казаку - страница 12
До конца XVI века Донское казачье войско было независимым. В 1584 году донцы присягали на верность царю Фёдору Ивановичу. Однако понимание присяги было совершенно разным. Если для Москвы оно означало признание безусловного повиновения царю, то казаки воспринимали это как клятву в исполнении условий двустороннего равноправного договора между Доном и Москвой. При этом собственные порядки Донского войска, и право казаков отказаться от верности царю, если тот не исполнит своих обязательств по соглашению, были незыблемыми в сознании донцов.
Перепиской с войском Донским, посылкой жалованья, жалобами (челобитными) казаков ведал Посольский приказ, то есть на казаков смотрели в Москве как на другое государство. Посольский приказ переписывался с турецким султаном, польским королём, королём шведским, римским императором и другими государями, он же во времена царей Московских переписывался и с «верхними и нижними юртами Дона, с атаманами и казаками». И только в 1716 году войско Донское перешло из Посольского приказа в ведение учрежденного царём Петром Первым Правительствующего Сената.
Основу хозяйственной жизни казачества вначале составляли промыслы – охота, рыболовство и бортничество; сравнительно рано появилось скотоводство. Земледелие, как правило, стало распространяться позднее, примерно со второй половины XVII века.
Начиная с XVI века, казаки активно участвовали в охране границ Русского государства, в частности, надёжно защищали южные границы от набегов ногайцев, крымских татар и нападений турок. Значимая роль казаков в разгроме польских интервентов и освобождении Москвы дало им возможность принять участие в Земском соборе 1613 года, на котором был избран новый царь и новая династия Романовых.
Донские казаки в XVIII веке
Примерно с 1613 года донским казакам стало выплачиваться ежегодное жалованье за несение пограничной службы.
В первой половине XVII века была возведена Белгородская засечная черта от реки Ворскла через Белгород и Воронеж до Тамбова и далее на восток, прикрывшая центральные районы России от нападений врагов.
Между тем казаки мыслили своё государство состоявшим, как бы в личной унии с Москвой. Московский царь был и царём Дона, но во всём остальном оба государства были совершенно независимы. «Царствуй царь православный на Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону», – гутарили казаки в XVII веке.
Казаки старались извлекать из этого прямую материальную выгоду. Представляя себя как защитников южных рубежей Московского государства, они требовали от царя регулярного жалованья оружием, порохом и деньгами. Для царей же был важен этот «санитарный кордон», предохранявший Россию от непосредственного соприкосновения с могучими южными соседями – Турцией и Персией. Правда, иной раз донские казаки своей самостоятельностью приносили русскому царю немало внешнеполитических хлопот. Своими частыми набегами на Азов они сталкивали Россию с Турцией. Османские министры жаловались московским послам: «Донских казаков каждый год наши люди побивают многих, а всё их не убывает… Если б прибылых людей на Дон с Руси не было, то мы давно бы уже управились с казаками». Москва неизменно отвечала на это Турции: «Хотя бы турские люди донских козаков до одного человека побили, то наш великий государь вашему за то не постоит. Наш великий государь сам о том помышляет, чтоб казаков на Дону не было».