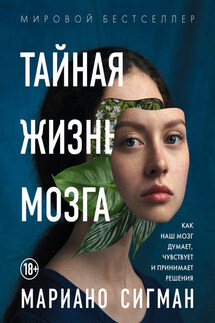История недоношенного ребенка - страница 2
Помимо говорения, чтения и письма, Нина Васильевна занималась со мной чем-то типа окружающего мира. Я помню, как мы разучивали (или повторяли) с ней времена года и названия месяцев. Вся эта детская программа не вызывала у меня каких-то сложностей. Я отлично понимала, что, скажем, февраль – это последний месяц зимы. Реальную же жизнь мы не изучали, а потому однажды, уже лет в девять, когда бабушка при мне назвала март зимой (не во время занятий со мной, а просто по ходу жизни), я пришла в шок и тогда так и не поняла, как такое вообще возможно и что за бред она несет. Другими словами, у меня не было проблем с тем, чтобы выучить пресловутую азбуку и дошкольные истины, а вот с пониманием и интерпретаций слов и мнений реальных людей, а не педагогов, работающих по методичке, у меня возникали серьезные проблемы, но близкие тогда не обращали на это никакого внимания. В марте в Петербурге бывает минус десять, поэтому для них очевидно, что март с точки зрения обычной (а не календарной) жизни – это зима, и они не считали своим долгом это мне специально объяснять.
Вспоминая детство, я задумалась о том, не могло ли быть так, что родители уже тогда, на рубеже девяностых и нулевых, на самом деле понимали, что их дочь и внучка – ребенок с особенностями развития куда более серьезными, чем просто речевые нарушения без нарушения интеллекта, но не хотели ломать мне жизнь психиатрическими диагнозами? Тем более, что все они люди советского воспитания. Но если предположить, что они или кто-то из них все знал, то возникает вопрос: почему та же Нина Васильевна или какой-то другой специалист, работающий в частном порядке (чтобы не портить ребенку жизнь официальным диагнозом), не занимался моей социальной адаптацией так же, как происходит в центрах помощи детям с особенностями развития? Не учил находить друзей? Не объяснял, что да, по календарю февраль – последний месяц зимы, но есть и другие градации. Но ничего этого не было. Отсутствие у меня друзей почти никого не волновало, так что я все-таки склоняюсь к тому, что взрослые действительно ничего не знали, а не просто притворялись.
Если вы почитаете, как занимаются с детьми с ментальной инвалидностью, то узнаете, что их не просто (или не только) учат читать и дают за это конфеты. Учить читать и давать за это конфеты можно в принципе и здорового ребенка. Их учат, например, причесываться, потому что считается, что, в отличие от здоровых детей, у них могут возникнуть с этим проблемы.
***
Когда я перешла в подготовительную группу, к нам в садик пришла новенькая: Настя. Скорее всего, из-за того, что она новенькая, она не смогла влиться в компанию других девочек и подружилась со мной.
К тому моменту я уже хотела друзей, и очень радовалась тому, что у меня теперь есть подруга. Мы даже (естественно, по ее инициативе) обменялись городскими телефонами, записав номера в блокноты. Совсем как взрослые, благо обе умели писать!
К сожалению, я уже не помню, как решилась проблема с дефицитом игрушек: Настя доставала их для нас обеих, либо мы просто общались, но с ней стало хотя бы нескучно, и я даже горевала в те дни, когда она не приходила в садик. В том же учебном году я впервые пошла вместе с Настей на елку в каком-то огромном шумном спортивном комплексе. Видимо, из-за нехватки места родителей внутрь не пускали, а потому они заранее договорились о том, чтобы мы пошли туда вдвоем.