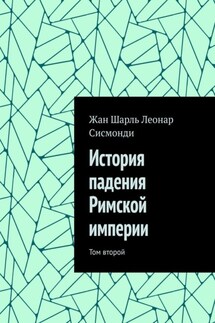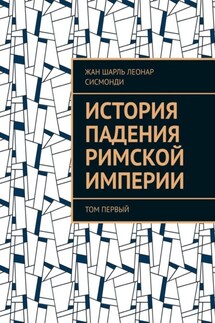История падения Римской империи. Том второй - страница 3
Но даже добросовестность не даёт никакой гарантии против опасностей фанатизма, против нетерпимости, которую он порождает, против жестокости, которая за ним следует. Магомет был реформатором арабов; он учил их и хотел научить познанию истинного Бога. Однако, как только он принял новый образ пророка, его жизнь утратила чистоту, а характер – мягкость. Политика проникла в его религию, обман всё больше смешивался с его поступками, и к концу его пути трудно понять, как он ещё мог оставаться искренним с самим собой.
Магомет не умел читать; в Аравии грамота не считалась необходимой для хорошего воспитания. Но его память хранила все самые блистательные поэтические творения на его языке; его стиль был чист и изящен, а красноречие – убедительно и увлекательно. Коран, который он диктовал, считается шедевром арабской литературы, и мусульмане без колебаний утверждают, что он должен быть вдохновлён свыше, ибо ни один человек не смог бы написать столь возвышенно. Правда, для всех, кроме мусульман, это божественное вдохновение неуловимо. Восхищение, привитое с детства перед книгой, постоянно присутствующей в памяти, постоянно всплывающей во всех отсылках национальной литературы, вскоре создаёт ту самую красоту, которую, как кажется, находит в ней. К тому же, недостаток литературного образования, видимо, внушил Магомету некое религиозное почтение к любой книге, объявленной боговдохновенной. Авторитет Книги, авторитет написанного всегда велик у всех полуварварских народов; у мусульман – особенно. Книги иудеев, книги христиан, даже книги магов возвышают в глазах последователей Магомета тех, кто делает их основой своей веры, над классом неверных. А сам Магомет, объявляя себя последним и величайшим из пророков Божьих, Параклетом, обещанным в Писании, признавал шесть последовательных откровений – от Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Христа и от себя самого, – все исходящие от Божества, причём его собственное лишь завершало все предыдущие.
Религия Магомета заключалась не только в вере в догмат, но и в практике нравственности, справедливости и милосердия. Правда, с ним случилось то, что часто бывает с законодателями, желающими подчинить добродетели сердца строгим правилам: форма заняла место сути. Коран из всех религиозных законодательств сделал милостыню самым строгим долгом и определил её точнейшие границы: он требует от каждого верного выделять на благотворительность от десятой до пятой части дохода. Но правило заменило чувство: милосердие мусульманина – это личный расчёт, относящийся лишь к его собственному спасению, и тот же человек, который скрупулёзно исполняет обязанности этой благотворительности, не становится менее жестоким и беспощадным к ближним.
Внешние обряды были особенно необходимы в религии, которая, не допуская ни изображений, ни сложных церемоний, ни даже особого сословия жрецов (кроме хранителей законов), казалась обречённой на равнодушие и холодность. Проповедь стала общественной практикой; молитвы, омовения, посты – индивидуальными обязанностями, к которым призывались мусульмане. До конца своей жизни Магомет постоянно проповедовал своему народу – и в пятницу, которую он особенно посвятил богослужению, и во всех торжественных случаях, во все моменты опасности или вдохновения. Его пламенное красноречие умножалось числом его последователей и поддерживало их рвение. После него первые халифы и все, кто имел какой-либо авторитет среди верующих, продолжали проповеди, часто во главе войск, разжигая военный энтузиазм религиозным.