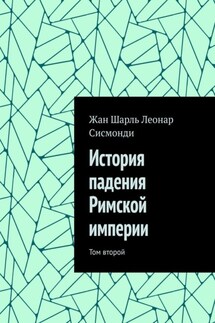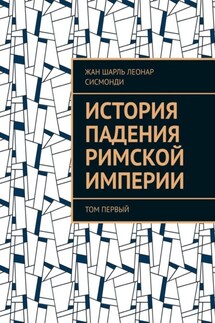Читать онлайн Жан Шарль Леонар Сисмонди - История падения Римской империи. том Первый
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Жан Шарль Леонар Сисмонди, 2025
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2025
ISBN 978-5-0065-9421-0 (т. 1)
ISBN 978-5-0065-9422-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
История падения Римской империи
и упадка цивилизации с 250 по 1000 год.
Том первый
Сочинение Ж. К. Л. Симонда де Сисмонди
Иностранного члена Института Франции, Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге, Королевской Академии наук Пруссии; почетного члена Виленского университета, Академии и Общества искусств в Женеве, Итальянской Академии, а также академий Георгофили, Кальяри, Пистойи, Римской археологической академии и Понтанского общества в Неаполе.
ПАРИЖ – TREUTTEL ET WÜRTZ – 1835.
Предисловие
Самое важное, самое всеобъемлющее и самое продолжительное из потрясений, пережитых человечеством, – это то, которое разрушило древнюю цивилизацию, чтобы подготовить элементы новой.
Оно застало людей на высшей ступени совершенства, которой они тогда достигли – как в области общественного устройства и законодательства, так и в философии, литературе и искусствах, – и низвергло их, через череду всё более ужасающих кризисов, в состояние полнейшего варварства.
Оно охватило всю часть человеческого рода, которая в ту эпоху осознавала свое существование и была способна сохранять воспоминания, – то есть ту, чьи мысли дошли до нас через письменные памятники.
Оно длилось по меньшей мере восемь столетий, начинаясь в эпоху правления Антонинов, когда народы, казалось, достигли вершины благоденствия, и продолжаясь, через череду потрясений, до почти полного распада всех прежних человеческих сообществ и переустройства общества на новых основаниях.
Римская империя, которая тогда охватывала всё, что считалось обитаемым миром, была захвачена окружавшими её варварскими народами, разорена, обезлюдела и раздроблена. Завоевательные племена, поделившие её остатки, попытались основать на её древней почве множество монархий, но все они исчезли через два-три поколения. Их дикие учреждения оказались недостаточными для сохранения жизни народов. Затем явились два великих человека – Магомет на Востоке и Карл Великий на берегах Рейна, – и один за другим попытались возглавить новую цивилизацию. Каждый из них основал империю, которая на время сравнялась могуществом с древней Римской империей. Однако момент реорганизации ещё не настал: империя халифов и империя Каролингов рухнули в короткое время.
Тогда народы казались распавшимися, расы смешались; насильственную и временную власть захватили короли и эмиры, которые не были вождями народов, а лишь случайными повелителями ограниченных территорий, очерченных произвольно. Никто больше не мог верить, что у него есть родина или правительство. В конце концов всякая общественная защита исчезла, и города и общины взялись за оружие для самозащиты. Настал момент, когда землевладельцы строили укреплённые убежища, когда деревни и города восстанавливали свои стены, когда все вооружались для собственной защиты. Каждый должен был взять управление в свои руки и начать строительство общества с самых основ.
Такова страшная революция, совершившаяся с III по X век нашей эры, которая, однако, именно из-за своей всеобщности и продолжительности, не имеет даже общего названия.
Чтобы охватить всю эту грандиозную катастрофу, нужно как бы собрать её в единый фокус: отбросить факты, рассеивающие внимание, ограничиться крупными движениями каждого народа и каждого века, показать согласованность действий варварских завоевателей, которые сами не знали, что действуют сообща, проследить нравственную историю мира, оставив в стороне подробности войн и преступлений, и, наконец, искать в понимании причин то единство замысла, которого не даёт нам столь изменчивая картина.
Первая половина Средних веков предстаёт перед нами как хаос, но в этом хаосе, под его руинами, скрываются важные уроки.
Посвятив долгие годы изучению возрождения Европы, я решил, что будет полезно одним взглядом охватить всю картину этого великого переворота. Уже пятнадцать лет назад я попытался объяснить ход этой страшной революции в ряде лекций, прочитанных в Женеве перед небольшой аудиторией. Воодушевлённый интересом, который они, как мне казалось, вызвали, я сохранил этот обширный труд, чтобы однажды представить его в одной из столиц просвещённого мира. Но приближающаяся старость предупреждает меня, что не стоит больше рассчитывать на возможность устного преподавания; кроме того, я почувствовал, что может быть полезно обратиться к гораздо более широкой публике, чем та, что посещает лекции или читает объёмные труды, и предложить ей лишь результаты более обширных исследований.
Картина первой половины Средних веков – это история падения Римской империи, вторжения и поселения варваров среди её развалин; это, более того, история гибели античной цивилизации и первых попыток реорганизации современных обществ; это, наконец, летопись страданий всего человеческого рода с III по X век христианской эры.
В этих томах, даже больше, чем в Истории возрождения свободы в Италии1, я был вынужден бегло касаться событий, показывать лишь результаты, воздерживаться от всякой критической дискуссии, от всяких ссылок на источники. Мне хочется верить, что среди моих читателей найдутся те, кто захочет обратиться к трудам, которыми я подготовил этот обзор. Они увидят, особенно в первых томах моей Истории французов, что факты и выводы, которые здесь могут показаться поспешными, на самом деле собраны и выверены добросовестными исследованиями.
Глава I. Введение. Величие и слабость Римской империи
Среди занятий, предназначенных возвышать душу или просвещать ум, едва ли найдётся что-либо более достойное, чем изучение истории, если рассматривать её не как пустое перечисление фактов, лиц и дат, а как существенную часть великой системы политических и нравственных наук, как собрание всех опытов, проливающих свет на теорию общественного блага.
Это неизбежное следствие слабости человека, его неспособности противостоять собственными силами всем страданиям и опасностям, которые его постоянно окружают, – его потребность в объединении: он соединяется с себе подобными, чтобы получить от них и предложить им взамен взаимную помощь; он ищет в них защиту от немощей детства, старости и болезней; он просит их совместно отражать враждебные силы природы, сообща охранять усилия каждого, направленные на собственное благополучие, гарантировать его покой, собственность, которую он создал, отдых, который он себе обеспечил, и использование этого отдыха для развития своего нравственного существа. Как только он начинает размышлять, перед ним возникают две совершенно различные цели: во-первых, удовлетворение от способностей, которыми он себя ощущает наделенным, и, во-вторых, совершенствование этих самых способностей, или прогресс к более высокому состоянию. Он не только стремится быть счастливым, но и хочет стать достойным вкусить блаженство более возвышенной природы. Таким образом, счастье и добродетель – это двойная цель, сначала всех индивидуальных усилий человека, а затем всех его совместных действий. Он ищет в своей семье, своем положении, своей родине средства для достижения этого двойного прогресса; ни одно объединение не отвечает полностью его желаниям, если оно не способствует и тому, и другому.
Теория этих объединений, теория всеобщего благоденствия – это то, что иногда обозначали именем социальной науки, а иногда – политических и нравственных наук. Если рассматривать ее в целом, социальная наука охватывает все, что человеческие объединения могут сделать для общего блага и нравственного развития человека; если же рассматривать ее по отраслям, то среди политических и нравственных наук можно выделить конституционную политику, законодательство, административную науку, политическую экономию, науку о войне или национальной обороне, науку воспитания и, наконец, самую сокровенную из всех – науку нравственного наставления взрослого человека, или религию. Ко всем этим отчасти умозрительным наукам постоянно примыкает история, как бы образуя их экспериментальную часть; она – общий архив опыта всех этих наук.
Мы знаем, что одно лишь слово «политика» вызывает воспоминания, часто горькие, часто мучительные, и что многие люди смотрят на изучение этой науки не без некоторого страха, поскольку она известна им более по ненависти, которую возбуждала, чем по благу, которое могла принести. Однако прежде чем заявлять о нашем отвращении к политическим наукам, вспомним, что это означало бы презрение к счастью, просвещению и добродетелям людей. С одной стороны, речь идет о том, как мудрость немногих может быть наилучшим образом использована для прогресса всех, как добродетели могут быть наилучшим образом почитаемы, как пороки могут быть наиболее обескуражены, как преступления могут быть наилучшим образом предотвращены, как даже в их наказании можно достичь наибольшего общественного блага с наименьшими страданиями. С другой стороны, важно понять, как создаются и распределяются богатства, как физическое благополучие, которое эти богатства обеспечивают, может распространиться на как можно большее число людей, как оно может в наибольшей степени способствовать их радостям; речь идет, таким образом, и об общем достатке, о домашнем благосостоянии, о счастье семейного очага. Кто, бросив взгляд на все, что охватывает политика, осмелится сказать, что ненавидит ее? Кто осмелится сказать, что презирает ее?
Но эта наука, столь важная по своей цели, столь тесно связанная со всем самым возвышенным в предназначении человека, – столь же ли достоверна, сколь благороден ее предмет? Приводит ли она к той цели, к которой, как утверждается, направляет наши усилия? Установлены ли ее принципы теперь так, что их уже нельзя поколебать? Признаем: это не так. Социальная наука разделилась на множество ветвей, каждая из которых с лихвой достаточна, чтобы занять жизнь самого усердного человека. Но нет ни одной из этих ветвей, где бы не возникли соперничающие школы, оспаривающие сами основы всех своих учений. В умозрительной политике либералы и сервилисты спорят о фундаментальных принципах любого объединения. В законодательстве правовые школы не менее противостоят друг другу: одни всегда рассматривают то, что было, другие – то, что должно быть; и в странах, принявших римское право, как и в тех, где основой законодательства является обычай, эти две системы враждуют между собой. В политической экономии противоречивые доктрины проповедуются с одинаковым пылом даже относительно основ науки; и до сих пор остается вопросом, всегда ли прогресс производства и рост населения – благо или иногда зло. В теории воспитания спорят обо всех способах распространения просвещения; спорят о пользе самого просвещения, и до сих пор находятся люди, рекомендующие невежество как хранителя добродетели и счастья народа. Самая возвышенная из социальных наук, самая благотворная, самая утешительная, когда достигает своей цели, – религия – также самая спорная: враждебные секты слишком часто превращают узы любви в повод для борьбы. Никогда, пожалуй, больше, чем в этом веке, не апеллировали к принципам во всех областях социальных наук; никогда принципы не было труднее определить; никогда еще не было так невозможно представить хотя бы один, который получил бы всеобщее признание.