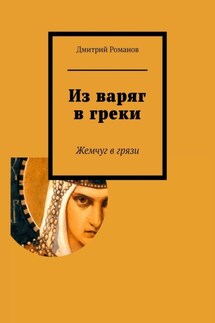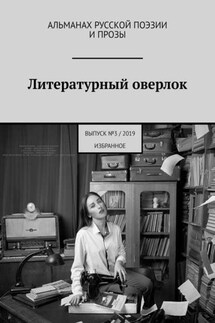Из варяг в греки - страница 30
– Свенельд, – сказал Игорь, давя досаду, – вели своим воям землянки рыть, да хаты ставить.
– Чего это ты решил, князь? – недоверчиво, но с виноватым за недавний отказ видом спросил воевода.
– Не хотят нам ворота отворять, так мы свои поставим напротив.
Место выбирали трое братьев дреговичей. Племя их селилось по болотам за Припятью и Сожью, были им топи милей балтийских лесов на севере, а их главный город Туров летом не видать было из-за комариных туч. От того звали их дрягвой – трясиной.
Теперь они выбрали место в болотах небольшой реки, впадавшей в Днепр за двадцать пролётов стрелы от Пересеченя.
– Только болотники могли найти тут остров! – удивлялся Игорь, проходя по узкой тропке меж чёрных омутов. Шаг в сторону – и одна шапка всплывёт.
Остров среди болота был незаметен издали, хотя и широк – на десяток изб с частоколом. К нему вели одним братьям ведомые стежки меж кочек. Местами на ветках ивы они вешали белые ленты. Иди по ним от одного куста к другому – не провалишься.
Трясина была достойной защитой подступов.
В несколько дней возвели частокол, и скоро встала первая хата – княжий дом. Перед ним – длинная, крытая хвоей землянка – дружинная изба, где собирались командиры-сотники. Простые вои и гридни обстали вокруг в шалашах. От комаров жгли полынь, и сизый дым лежал над корягами.
Ни один улич не смел сунуться туда – городище на болоте было сущей волшбой. Только навь может селиться среди мёртвой воды, только упырь построит город в месте, неосвященном курганами чуров. Нет в этих киевлянах ничего святого!
Но на том дело и стало. Дружина кисла без боя. Иногда ловили лазутчиков, ходили браниться под стены, но возвращались без драки.
Пару раз молодые варяги бродили по ночам окрест Пересеченя, да ловили баб. Пленниц долго мяли, и никто из них обратно не возвращался. Славяне не участвовали в насилии – говорили, что боятся русалок, коими станут убитые женщины. Но не только страх был на их лицах, а и мерзкий для варягов укол совести.
– Этакой лаской Пересечень не взять! – хмурился молодой Асбьёрн. – Что за племя вялое эти славяне?
– Вот были времена, наши отцы их вязали, да франкам с ромеями за серебро продавали! – негодовал рыжебородый Гримнир в синих наколках по скулам. – А теперь, вишь, союзничаем. Сами скоро прислуживать начнём!
Варяги вообще не были согласны жить на болотах. Что толку? Нужна яростная осада, и пусть либо всех их отправят в Вальхаллу, либо город падёт. Но славяне ни о какой Вальхалле слышать не хотели. Эти истории про небесный город, куда попасть можно лишь умерев в бою, казались нелепыми – ведь от Ильмень-озера до Тьмутаракани все после смерти подымались на дымах костров в ирей, где терема из птичьих трелей, а сиреневое небо в жемчугах материнской неги. Или – хочешь – вниз к Ящеру, и оттуда толкай хлеба по весне, чтобы колосились нивы на радость потомкам. Помогай роду плодиться, кушай жертвенную кашу, и будь всегда близ внуков и правнуков. К чему душа лежала при жизни, туда потом и направишься.
И было в этом что-то настолько прочное, что не вызывало удивления, когда первые чернецы из Царьграда, пришедшие ещё с князем Аскольдом, говорили о том же. Только вместо ирея был у них свой рай – сад Бога, а подымал к этому саду от земли тебя не жертвенный дым, а Божий Сын. И, если ты хотел туда при жизни, то Сын брал тебя после смерти, а если не хотел, то и не трогал. Как хочешь, так и будет. И тогда мог ты идти к Ящеру вариться в котле вместо жертвенной каши, или блуждать тенью среди живых. Но ромеи считали это мукой, ведь все дела и слова твои будут лишь скрежетом зубовным, и самую тонкую свечечку не сможешь ими затушить. Греческая вера сурова, но угар Вальхаллы казался безумием. Что толку вечно драться и пить хмельной мёд, а в конце времён умереть вместе с богами? Смертные боги – не очень-то честные сотрапезники.