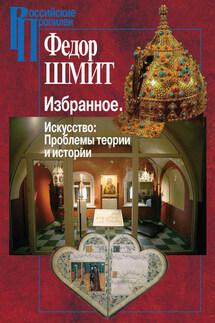Избранное. Искусство: Проблемы теории и истории - страница 39
2. Мы построили эволюционную схему образного мышления на допущении, что оно едино. Между тем мы сами установили, что оно двоится – на конструктивное и репродуктивное; предположив, что наша схема пригодна для классификации репродуктивных образов, мы все-таки не можем иметь уверенности в том, что она пригодна и для образов конструктивных. А кроме того, раз речь идет об искусстве, т. е. о выявлении образов, то даже единство репродуктивного мышления становится фикцией: если каждый образ есть комплекс зрительных, слуховых, двигательных и пр. элементов, неразрывно связанных, то ведь каждое искусство прежде всего разрушает эти комплексы, имеет лишь ограниченную тем или иным одним мозговым центром область ведения. Поэтому, даже допуская, что наш «круг стилей» соответствует не только развитию образного мышления в целом, но, в целом же, отражает также и развитие искусства (совокупности всех искусств), мы не можем иметь уверенности в том, что каждое отдельное искусство непременно проходит в своей эволюции через все намеченные нами и именно через намеченные нами этапы.
Ответ на эти возражения могут дать только факты: надо методически пересмотреть все искусства и установить в точности, как в каждом из них ставятся перечисленные выше изобразительные проблемы, как эти – или иные – проблемы ставятся в неизобразительных искусствах, и, наконец, в каком порядке проблемы возникают в мировом искусстве и как они там разрешаются, можно ли классифицировать по какому-нибудь признаку эти разрешения и обнаружить законосообразность в их последовательности. Первый вопрос – о постановке проблем в разных искусствах – относится к стилистике; второй вопрос – о разрешениях проблем – относится к истории.
Искусство всегда может и умеет то, чего хочет, но и только то, чего хочет.
Доказать человеку, не стоящему на точке зрения рефлексологии, правильность этого афоризма именно в этой форме с полной очевидностью не представляется возможным: о том, чего искусство хочет, мы ведь должны судить исключительно по тому, что оно может и умеет. Точно доказать историческими фактами можно только следующие положение: мы наблюдаем в развитии искусства везде и всегда такую смену умений, приемов, материалов, которая вполне соответствовала бы именно теоретически установленной смене стилей, т. е. последовательной смене художественных потребностей; мы устанавливаем, что появляющиеся вновь уменья, приемы, материалы так вытесняют прежние, что эти последние решительно забываются – на время, с тем чтобы в дальнейшем в соответствующий момент воскреснуть, когда они по ходу развития искусства вновь станут нужными; мы устанавливаем, что очень часто (а может быть – всегда) круг технических возможностей и материалов, имеющихся в распоряжении художника, гораздо шире, чем круг фактически использованных художником материалов и приемов. Все это не доказывает, конечно, полностью тезис, который мы выписали в начале настоящего параграфа, но делает его в высокой степени правдоподобным, особенно если принять во внимание, что совокупность умений и приемов, растет также законосообразно, как и художественное мышление, как и мир эмоций.
Проверить наше положение мы теперь можем и экспериментально: за много тысяч лет своей истории искусство накопило колоссальный опыт, необозримую массу умений и приемов, которые в готовом виде могут быть сообщены технически отсталым народам. Вероятно, если серьезно взяться за дело, можно выдрессировать сотню папуасов так, что они исполнят симфонию Бетховена, – но папуасы не захотят добровольно ни исполнять, ни слушать симфонию Бетховена, потому что она им внутренне не нужна, не соответствует миру их слуховых образов. Бушмен-живописец не сумеет использовать полный набор великолепнейших лефрановских масляных красок