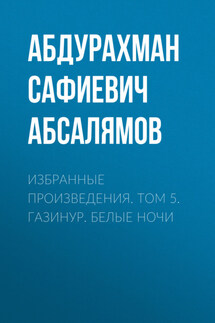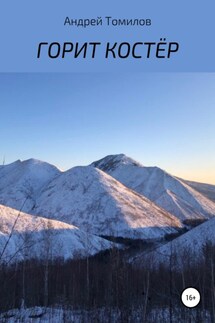Избранные произведения. Том 2 - страница 44
И без того взбешённый Ильмурзой, не посчитавшимся с отцовским словом, Сулейман, узнав вдобавок о неблагодарной выходке зятя, разбушевался, да так, что удержу на него не было. Разбередила эта несправедливость и старые душевные раны.
Сулейман-абзы, хотя при случае и не прочь был похвастать своим зятем, уже много лет таил в сердце своём горечь обиды на него. Не видел тесть от Хасана искреннего чувства уважения, почтительности, которым так дорожат старики татары.
Пока зять живал где-то на стороне и встречаться приходилось редко, это чувство угнетало Сулеймана, но как-то глухо и привычно.
Теперь же, когда Муртазин вернулся в Казань директором «Казмаша» и всякий, кому не лень, успел прослышать, что новый директор не изволил даже перешагнуть порог дома своего тестя, застарелая боль Сулеймановой обиды дала новую вспышку. Однако не идти же старику с повинной головой к зятю, раз он считал, что большая часть вины лежит всё же на Хасане.
С юных лет Сулейман не выносил никакой несправедливости. И взрывался он мгновенно, как пороховая бочка. Был такой случай ещё до революции: токари Сулейман и Матвей забежали мимоходом в литейную проведать своего дружка Артёма. Не успели они толком выкурить по папироске, в цехе появился сам хозяин завода Яриков. Был он какой-то усохший, костлявый, на одном ухе всегда болталось пенсне на серебряной цепочке, он то сдёргивал, то опять насаживал его на свой тонкий, хрящеватый, с хищной горбинкой нос. Губ совсем не видно было; в народе поговаривали, что он сжевал их от злости. Яриков напустился на рабочих:
– Эй вы, дармоеды, лодыри, почему простаиваете?! – И лихо подскочив к Погорельцеву, который попробовал возразить что-то, хлестнул его по щеке.
Погорельцев едва сдержал себя, хотя мог бы одним ударом прикончить Ярикова.
– Ты, хозяин, языком тренькать тренькай, а рукам воли не давай! – сказал он с угрюмой угрозой. – Запомни, – тебе же лучше будет; перед тобой люди, а не чурки стоят!..
Тонкие губы Ярикова презрительно передёрнулись. Смешно подпрыгнув, он ещё раз замахнулся на Матвея. Тут Сулейман не выдержал. Оттолкнув в сторону пузатого мастера, охранявшего хозяина, он схватил Ярикова одной рукой за воротник, другой за штанину, поднял в воздух и, не обращая внимания на визгливую брань его и вопли, зашагал к полыхавшим вагранкам, в которых клокотал расплавленный чугун.
Все оцепенели. Шляпа хозяина, его разбитое пенсне валялись на полу. Ещё мгновение, и разъярённый Сулейман бросил бы хозяина в вагранку. Багровые отсветы жаркого огня уже лежали на лице Ярикова. Он беспомощно сучил ногами, вереща, как боров под ножом.
– Сулейман, опомнись! – в один голос закричали Матвей и Артём.
– Уступать извергам?.. Уступать всякому негодяю, которому вздумается издеваться над нами, га? Нет, в вагранку их, всех в вагранку!..
Едва удалось остановить разъярившегося Сулеймана.
Когда за ним пришли жандармы, он, несмотря на настойчивые увещания товарищей, и не подумал прятаться. Сулейман схватил длинный железный прут и, рванув на себе ворот рубахи, закричал:
– Не подходи близко, в лепёшку расшибу! Стреляйте издали! – И, увидев, что жандармы растерялись, сам пошёл на них, высоко занеся железный прут над головой. Не так-то легко было жандармам связать и увести разъярённого Сулеймана.
С той давней поры за ним и осталось прозвище – «Сулейман – два сердца, две головы». С годами Сулейман, ясное дело, поутих. Но всё же лучше было его не сердить. Сегодня после смены, не помывшись как следует, Сулейман заспешил в заводоуправление, но директора в кабинете не застал. И неизвестно было, когда он вернётся. Перепугав секретаршу с крашеными лимонно-жёлтыми волосами и столь тонкой талией, что, казалось, достаточно порыва ветра, чтобы она переломилась надвое, Сулейман, поминутно чертыхаясь, прождал в приёмной около часа и наконец, махнув рукой: «Э, да провались он ко всем чертям!», решил отправиться домой.