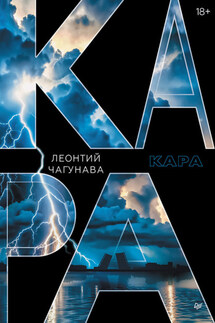Читать онлайн Леонтий Чагунава - Кара
Все персонажи и события, описываемые в книге, являются вымышленными. Любые совпадения с реальными людьми или событиями случайны.
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
© ООО Издательство "Питер", 2025
Часть 1
Глава 1
Андрей Михайлович Лисицын родился в середине шестидесятых годов прошлого века в небольшом промышленном городке на юго-востоке Ленинградской области.
Его семья ничем не отличалась от большинства советских семей, которые пытались построить свое незамысловатое житейское счастье в Советском Союзе. Родители Андрея были, как тогда говорили, людьми интеллигентными.
Город, где жили Лисицыны, славился на весь СССР своими месторождениями известняка и алюминиевой руды. После войны там построили глиноземный завод. Со всех концов страны съезжались на завод специалисты – молодой город рос и развивался. Выпускников вузов и техникумов направляли туда по распределению. Желающих было хоть отбавляй.
Так же, по распределению, приехал в городок и отец Андрея – Михаил Алексеевич Лисицын. Хотя тут сработал не столько маховик распределительной машины, сколько южный напористый характер молодого инженера. Михаил Алексеевич вырос в одном из совхозов на Ставрополье, но уже с детства, начитавшись советской литературы, мечтал об огромных заводских корпусах, мощных станках и пылающих печах для плавки металла, где выковывается будущее страны.
Окончив с отличием сельскую школу, он отправился в Новочеркасск поступать в Политехнический институт – соседи посоветовали: у некоторых там учились дети. Так Михаил Алексеевич выбрал свой жизненный путь. Или путь выбрал его.
На последнем курсе Михаил Алексеевич со всей своей институтской группой отправился в Ленинград. Гуляя по городу, он встретил свою будущую жену. Зоя Ефремовна, на тот момент студентка биофака педагогического института, выбирала с подружками книги в Доме Зингера на Невском. Девушки что-то обсуждали, а Михаил Алексеевич не мог оторвать от нее взгляд. Красивая, яркая – даже на фоне модных ленинградок она выделялась – Зоя Ефремовна была непохожа ни на кого из тех, с кем он встречался раньше. Пышная юбка в горошек и приталенный жакет выгодно подчеркивали ее стройную фигуру, а громоздкая для такой хрупкой девушки сумка, набитая книгами, вызывала острое желание помочь.
Однако эта внешняя беззащитность оказалась обманчивой.
Зоя Ефремовна, как и большинство детей войны, успела немало пережить к своим двадцати годам. Она родилась в Свердловске, куда ее мать успела эвакуироваться из уже оккупированной Орловской области осенью сорок первого года. Родители Зои Ефремовны не дожили до победы: мать умерла сразу после родов, а отец погиб в украинских лесах, куда ушел партизаном. Зоя Ефремовна попала в детский дом. После войны девочку воспитывала тетка, которая забрала ее обратно в Орловскую область. Тетя постаралась сделать все, чтобы племянница не чувствовала себя сиротой, но из глубины голубых, не по возрасту серьезных глаз Зои Ефремовны даже в самые счастливые моменты ее жизни не исчезала печаль. Возможно, эта грусть, придававшая незнакомке еще больше загадочности, и привлекла Михаила Алексеевича, когда их взгляды встретились. Он тут же подошел познакомиться. Скромная девушка его отшила, но напористый молодой человек все-таки сумел выяснить, где она учится. Найти ее в институте было уже делом техники.
Михаил Алексеевич влюбился с первого взгляда. И, вернувшись в Новочеркасск, сделал все, чтобы выбить себе место поближе к Ленинграду. На работу в самом городе рассчитывать не приходилось, но вот в области, где к тому моменту было уже много заводов и фабрик, можно было устроиться. Так и получилось – Михаила Алексеевича распределили на недавно построенный глиноземный завод.
Городок, где поселились Лисицыны, больше напоминал типичный рабочий поселок. Молодой семье выделили квартиру в одном из домов, возведенных для «заводских». Здесь у них сначала родился сын Андрей, а тремя годами позже – дочь Валя.
Жизнь в СССР нельзя было назвать легкой и беззаботной, но Лисицыны чувствовали себя вполне счастливыми. Дети, друзья, любимая работа, ощущение сопричастности к чему-то большому и значимому – все это приносило радость, которую не омрачали ни дефицит, ни почти полное отсутствие удобств. Михаил Алексеевич и Зоя Ефремовна выросли в послевоенные годы, когда главной ценностью был наступивший мир, поэтому на бытовые сложности и недостаток комфорта особого внимания они не обращали. И детей воспитывали по тому же принципу.
Сын Лисицыных, Андрей, рос непоседливым, любознательным и впечатлительным мальчиком. Добрый и мягкий от природы, он инстинктивно стремился помогать всем вокруг, особенно девочкам. Носил им конфеты, отдавал свои вещи – от шапок до носков, а однажды даже попросил родителей купить пластмассовые бусы для одной из подружек в детском саду.
Иногда по выходным Лисицыны выбирались в Ленинград. Каждая такая поездка становилась настоящим событием. Правда, приходилось рано вставать, чтобы успеть на первую электричку, а потом бегом пересаживаться на автобус. Зато весь день они гуляли по городу: ходили в музеи, парки, любовались мостами и каналами. Старшие Лисицыны очень любили Ленинград и мечтали однажды перебраться сюда. Поэтому каждый раз, вернувшись домой, они всей семьей до позднего вечера обсуждали, как будут жить в этом прекрасном городе.
Этим их семья отличалась от соседей. Большинство жителей областного городка проводили свободное время в гостях, у телевизора или на даче – тех самых заветных шести сотках, которые для многих советских граждан составляли одновременно и предмет мечтаний, и главное увлечение. Лисицыны этих мечтаний не разделяли.
Когда пришло время отдавать Андрея в первый класс, родители сразу решили, что в школу, где работает Зоя Ефремовна, он не пойдет. Не хотели, чтобы мальчик пользовался каким-то особым отношением как «учительский сынок».
В классе, куда попал Андрей, учились дети разных национальностей: русские, украинцы, татары, белорусы, евреи – и с каждым он легко находил общий язык. Мальчик всегда был готов прийти на помощь одноклассникам. С учебой тоже не возникало сложностей, хотя ему явно не хватало усидчивости и внимания, за что он частенько получал выговоры от своей первой учительницы – Анны Генриховны Рихтер. Впрочем, выговоры эти чаще всего ничем серьезным не заканчивались: Анне Генриховне очень нравился этот бойкий, задиристый, но добродушный мальчишка.
Анна Генриховна была учительницей старой закалки. Седовласая, с несгибаемым характером и благородной осанкой, в строгом темно-сером платье с белоснежным воротником, она как будто сошла со страниц романов русских классиков. Дочь царского чиновника, русская немка Анна Генриховна получила прекрасное воспитание и говорила по-французски. Ее успешное будущее, казалось, было предопределено, но все изменилось с приходом к власти большевиков. После революции ей пришлось скрывать свое непролетарское происхождение. Она много скиталась по стране, пока не осела в городке, среди заводских рабочих и их детей. Анна Генриховна всегда держалась отстраненно. Не то чтобы у нее сохранились какие-то классовые предрассудки, но заводить знакомства она не стремилась. Чувствуя это, ученики сторонились ее, дав обидную кличку Фрицка. А вот Андрей – с горящими глазами, вечно растрепанный – почему-то пришелся ей по душе. Мальчик отвечал учительнице взаимностью.
Из-за своей неусидчивости Андрей вечно недотягивал до отличных оценок, и Анна Генриховна по просьбе Зои Ефремовны занималась с ним дополнительно у себя дома. Анна Генриховна знала, что Андрей способный, и ей хотелось, чтобы он сам в это поверил. Возможно, в нем она видела своего так и не случившегося внука – сын Анны Генриховны умер от воспаления легких во время войны, и она доживала свой век в одиночестве.
Однажды, прибежав на очередное занятие, Андрей заметил в старом серванте Анны Генриховны пожелтевшую от времени фотографию. В размытом фоне он узнал знакомые очертания скульптур Летнего сада и, не удержавшись, полюбопытствовал:
– Анна Генриховна, это же Ленинград?
– Петроград, – грустно улыбнувшись, почти шепотом ответила учительница, снимая очки и задумчиво глядя куда-то вдаль. – Так он тогда назывался.
– А это вы, с зонтиком?
– Нет, это моя мама, – Анна Генриховна взяла фотографию и с нежностью провела кончиком длинного тонкого пальца по изображению нарядной женщины. – Я вот тут, в коляске. А это мои папа и брат.
– Вы жили в Лен… ну, там?
– Да, Андрюша, мы жили в Петрограде, на Вознесенском проспекте. А это Летний сад, ты там бывал?
– Конечно! Мы много раз гуляли там с родителями и Валей. А тогда он выглядел как сейчас или по-другому?
Этих двоих объединила общая тайна. Анна Генриховна часами могла рассказывать Андрею о ее любимом Петрограде-Ленинграде, а он часами мог ее слушать. Она показывала мальчику старые открытки, на которых тот угадывал дворцы и музеи, где уже успел побывать с родителями. Это было похоже на какую-то сказку – знакомые вроде бы здания и пейзажи выглядели непривычно. Они с Анной Генриховной даже придумали игру: искать на фотографии отличия между старым и новым. Вот дворник в смешной шапке и длинном фартуке – сейчас таких не встретить, а вот княжеский герб на фасаде – на его месте теперь звезда.
Учительница с восторгом описывала красоту и блеск имперской столицы, но взяла с Андрея обещание никому об этом не рассказывать.
Мальчик не до конца понимал, почему не стоит распространяться о таких интересных вещах. Но спрашивать не решался. Ему нравилась эта таинственная недосказанность, которая делала их дружбу еще крепче. Сам Андрей немного стеснялся этой дружбы, боялся, что сверстники будут смеяться над ним, и скрывал ее даже от родителей.
Однажды, когда Андрей в очередной раз подрался с одноклассником, который постоянно делал ему пакости, Анна Генриховна строго отчитала Лисицына перед всем классом. Мальчик был потрясен. Ему казалось, что его предали. «Она ведь знает, что я прав! – думал он, спрятавшись в школьной раздевалке и размазывая по щекам слезы. – Как она посмела?! Больше моей ноги у нее не будет».
Потом, спустя много лет, Андрей со стыдом вспоминал этот эпизод. Анна Генриховна не могла поступить по-другому – она должна была казаться беспристрастной, да и он сам повел себя не лучшим образом. Но тогда его захлестнула обида, и, будучи ребенком, он реагировал так, как реагируют дети, – жестоко, не думая о последствиях. На дополнительные занятия к Анне Генриховне он ходить перестал. Она, конечно, переживала, скучала, но не настаивала – старенькая учительница знала, что рано или поздно их пути все равно разойдутся.
Без влияния Анны Генриховны Андрей стал еще задиристее. Постоянно лез на рожон, если считал себя правым. Родители пытались что-то объяснять ему, говорили, что он позорит звездочку октябренка, а мальчик в ответ лишь смотрел исподлобья и шумно сопел.
Зоя Ефремовна пробовала приглашать в гости ребят, с которыми он дрался. Угощала их конфетами, придумывала общие игры. Ей не хотелось, чтобы сын прослыл хулиганом. Андрея же это злило, – он не собирался первым мириться со своими обидчиками. А тут еще мама выставляет его трусом и слабаком. Несколько раз он наотрез отказывался выходить из комнаты к гостям. А мальчишки, съев все конфеты, которые родители доставали с огромным трудом, просто убегали во двор.