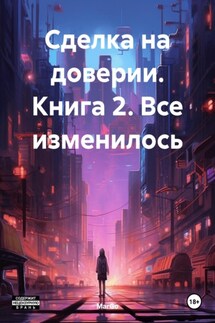Книга тишины. Звуковой образ города - страница 2
В одном месте своей рукописи Сергей Юрьевич признался, что обладает (страдает?) врожденной гиперакузией – «повышенной восприимчивостью к звуку вообще». Поэтому он не мог смириться с этим вечным мусором шума, к которому большинство людей как-то привыкли и не обращают внимание; не мог понять, почему люди битый час ловят назойливо жужжащую муху и остаются совершенно равнодушными к грохоту проезжающего под окном авто… Ему он мешал жить! Именно под колесами автомобиля он встретил мгновенную смерть… Что большинству представляется досадным неудобством, для Сергея Юрьевича являлось мукой адовой. И не оттого ли он так мало успел сделать?..
Работа над этой книгой имела для автора онтологический и – одновременно – гносеологический смысл (надеюсь, Сережа простит мне по старой дружбе эти действительно необходимые философские категории). Познать, как разместились в обширном российском пространстве, историческом времени, в литературном и обыденном языке векторы (синонимы) шума и тишины, где и когда они, гудки и звоны (колокола, бубенцы, сбиваемые сосульки и прочие «звонки-позвонки») сшиблись, – без этого знания ему не проложить дороги к незамутненной радости творчества, к спасению души…
«В начале было Слово». Только музыкант с абсолютным слухом и врожденной гиперакузией мог написать такой комментарий к Священному Писанию: «Произнесенное Слово Божие. Богослово. Слово = Бог. Как всякое изреченное слово, это Слово было звуком». Он и искал это спасительное звучащее начало в своем Звонимире, o котором сказал: «…славянское имя, топоним Звенигород, жуткий тверской „колоколец“ (предсмертный хрип-голк в груди умирающего)… За ним встает грандиозная проблема судьбы русского (национального) звукокосмоса». Для нас же за ним встает вся мистическая архитектоника этой автобиографической книги о шуме, тишине и колоколах.
Автор нигде не дает понять, воцерковленный ли он человек, но сам-то он хорошо знает, что колокольный звон – это «глас Божий». Рассказывает, как в Теплом Стане у целого дома украли солнце, когда напротив построили многоэтажку; как дочку Аню во дворе ужалила гадюка, одомашненная соседскими мальчишками. А ведь читал в цитируемом неоднократно словаре «Славянская мифология», что, когда солнце закрывали несущие град тучи, в деревнях их прогоняли колокольным звоном; что там, где звона же или человеческого голоса не слышали семь лет, уж превращался в крылатого змея. И не этот ли змей поселился со своими шумами в китайском ресторане «Золотой дракон» напротив храма Архистратига Михаила и дома Сергея Юрьевича на Погодинской улице.
Здесь его вновь обокрали; здесь лет восемь назад злые люди из ДЭЗа срубили на его балконе самосеянную, с неба занесенную «милую» березу (оберег). Здесь, наконец, он услышал ночью неурочный крик петуха. Звон ведь тоже не всегда, по народным поверьям, отгонял воров, сулил хорошие урожаи и защищал от нечистой силы; в определенные моменты он еще и смерть предвещал…
Комментируя в первой главе заключительные строки «На Маковце» П. А. Флоренского, Сергей Юрьевич с поразительной образностью и – оттого – точностью выразил свое научное (методологическое) кредо, свое представление о глубокой тайне познания, имя которой – Тишина:
«Мимолетно затронутое остается в букете, в сложном аромате Бытия; чрезмерно нагретое усердием аналитической мысли улетучивается, испаряется, и капля полученного экстракта не способна ни передать, ни тем более вернуть утраченного живого единства. Свободное же сплетение ассоциаций, образов, музык природы и Бетховена, мистик ночи, дня, вечера и утра – ведет в глубины великой тайны Тишины».