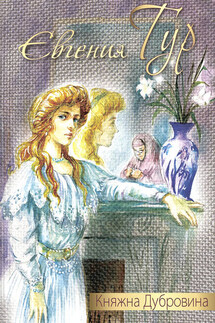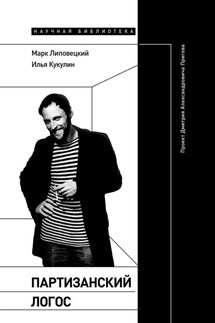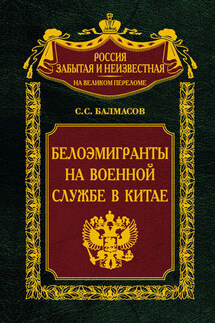Читать онлайн Евгения Тур - Княжна Дубровина
© Г. Хондкариан. Литобработка, 2015,
© А. Власова. Обложка, иллюстрации, 2015,
© ЗАО «ЭНАС-КНИГА», 2015
О книге и ее авторе
Евгения Тур (настоящее имя Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир, урожденная Сухово-Кобылина) родилась в 1815 году в Москве, в старинной дворянской семье. Будущая писательница получила хорошее домашнее образование, продолжила обучение во Франции, где позже вышла замуж за французского графа А. Салиаса-де-Турнемира.
По возвращении на родину жила в Москве, здесь она организовала литературный салон, который в разное время посещали Н. П. Огарев, Т. Н. Грановский, В. П. Боткин, И. С. Тургенев, Н. С. Лесков и др.
Потом литературным трудом занялась и хозяйка салона. Ее произведения имели большой успех и были высоко оценены критиками. А. Н. Островский открыто приветствовал рождение «нового самобытного таланта», а И. С. Тургенев отмечал, что «дарование госпожи Тур может с честью выдержать самую строгую оценку».
Из-под пера писательницы вышли повести «Ошибка», «Долг», «Две сестры», «Заколдованный круг», «Старушка», «На рубеже», «Цветочница», романы «Племянница», «Три поры жизни» и др.
Повесть в трех частях «Княжна Дубровина» впервые увидела свет в 1886 году. Она рассказывает о девочке, которую после смерти родителей приютило семейство небогатых родственников ее матери. Внезапно полученное огромное наследство меняет ее жизнь – теперь она вынуждена переехать к своим теткам и проститься со ставшими ей родными людьми. Но в негостеприимном доме богатых родственников Анюта не забыла добрых уроков детства. Повзрослев, она, не задумываясь, меняет столицу на тихое поместье, чтобы жить вместе с близкими и быть полезной людям.
Часть первая
Глава I
Помолвка гусарского офицера Богуславова с молоденькой княжной Дубровиной удивила все высшее петербургское общество. Благоразумным и пожилым людям показалось, что это дело непрочное и не обещающее счастья. Она была очень молода, неопытна, только что вышла из классной комнаты, только что появилась в свете; лицом миловидная, нравом кроткая, богатая и знатная. Он принадлежал к старому и богатому роду столбовых дворян, но вел жизнь шумную, рассеянную, уже порядочно запасся долгами и прожил бо́льшую часть родового имения. Своей красотой, остроумием, веселостью и ловкостью он и увлек семнадцатилетнюю княжну. Она была единственной дочерью своего отца, правда, у нее был брат, а матери они лишились в детстве. После многих возражений и колебаний, уступая ее просьбам и слезам, отец согласился на ее брак с Богуславовым. Свадьбу отпраздновали пышно, но без всякой радости, хотя на ней присутствовал весь город; был дан и парадный обед, и роскошные вечера у родных, а через четыре года все состояние молодой жены было промотано, сама она была несчастлива, занемогла и умерла, оставив сиротой единственного сына Сергея, которому не было и двух лет.
Богуславов, муж ее, женился вторично, а сына, лишь только ему минуло девять лет, отдал в корпус. Он рос одиноко. Мачеха его не любила, отец не пускал к родным с материнской стороны, потому что перессорился и с ними, и даже с собственными родными, которые не одобряли ни его образа жизни, ни его второй женитьбы на женщине, не заслуживающей уважения. Таким образом, с ранних лет бедному мальчику негде было приютиться. Когда он юношей вышел из корпуса, мачеха попыталась поссорить его с отцом и достигла своей цели. Желая избегнуть семейных неприятностей, Сергей Богуславов решился уехать служить на Кавказ. Князь Дубровин, брат его матери, предлагал ему вступить в гвардию и обещал содержать его на свой счет, но отец Сергея, узнав об этом, счел такое предложение личным оскорблением и приказал Сергею отказать дяде.
Сергей повиновался и сделал это резко, ибо отчасти разделял мнение отца и вопреки всему любил его. Узнав об отъезде юноши на Кавказ, все родные вознегодовали, тем более, что, не зная их с детства, он уехал, не простившись ни с кем. На Кавказе Сергей не мог снести вечно и всюду преследовавшего его одиночества и, еще не достигши двадцати двух лет, женился на бедной девушке из незнатного дворянского рода, приехавшей с родными на Кавказские Минеральные Воды. Жили они дружно, и счастье их удвоилось с рождением дочери, которую назвали Анной. Денег у них было мало, они жили скромно и хотя с трудом, но сводили концы с концами. Маленькой Анюте минуло два года, когда отца ее перевели из Тифлиса в крепость Грозную, нечто вроде оазиса посреди враждебных и воинственных черкесов, которые при всяком удобном случае нападали и убивали всякого, кого могли застичь врасплох. Жена с маленькой дочерью не могла последовать туда за мужем, но недолго пришлось ей пожить в городе, мучаясь мыслями об опасностях, которым подвергался ее муж. Однажды он был послан по делам службы в соседнюю крепость и пропал без вести. Долго его разыскивали и, наконец, начальство достоверно узнало, что он убит в ущелье и тело его брошено в пропасть. Несчастная жена, узнав внезапно о его смерти, впала в страшное отчаяние и в тяжкую болезнь. Она не береглась, зимой расхворалась еще более, и злая чахотка, по заключению врачей, неизлечимая, должна была вскоре свести ее в могилу.
Однажды полковник Василий Федорович Завадский, командир того полка, в котором служил Сергей Богуславов, воротился домой сумрачный. К нему навстречу вышла еще молодая, очаровательная жена и радостно его приветствовала, но мрачное лицо и нахмуренные брови полковника озадачили ее.
– Что с тобой, друг мой? – спросила она тревожно.
– Нехорошие вести, – отвечал полковник.
– Какие? Из дому? От моих? Из Москвы? – воскликнула с испугом Наталья Дмитриевна Завадская.
– Уж и из Москвы, – поморщился полковник с досадой, – тотчас пугаешься! Успокойся, не из Москвы, а с соседней улицы. Случилось несчастье, которое, впрочем, лично нас не касается, а жаль, по-человечески жаль. Известие о Богуславовой.
– О Богуславовой? Что с ней случилось? Я вчера сама заходила к ней, ей было гораздо лучше, и она мне говорила, что уезжает дня через три во внутренние губернии, в К**, к своей сестре.
– Ну, она и уехала, только не в К**, а на тот свет, – сказал полковник резко и мрачно.
– Как? Скончалась?
– Да, нынче ночью, скоропостижно. Никто не ожидал этого так скоро. Едва успели послать за священником, который причастил ее…
– Я всегда полагала, что она благополучно доедет до К** и умрет в доме сестры, которую так любила.
Жена полковника всплеснула руками.
– Боже мой! – воскликнула она. – А дочь ее, девочка, Анюта! Одна на чужой стороне, без отца и матери, без родных… На кого она ее оставила!
– На Бога, – сказал полковник. – Бог не оставит сироту. Наталья Дмитриевна молчала.
– Надо же, однако, подумать, – промолвила она наконец, – куда ее пристроить.
– Кого? – спросил полковник рассеянно.
– Да Анюту! Что это, мой друг, ты точно не слышишь… О чем ты думаешь?
– О том, где ее поместить, эту самую Анюту, – сказал полковник. – Жена, возьми ее к себе, – заключил он решительно.
– И рада бы душой, да куда же? Квартира наша маленькая, у нас четверо детей мал мала меньше, и взять еще Анюту да ее няньку… Куда я их помещу?
– Как-нибудь устроимся. Возьми ее именно потому, что у нас четверо детей. Чем больше мы своих детей любим, тем больше должны делать для детей оставленных и несчастных. Я не могу бросить сироту и, имея кров, не приютить ее. Притом же она дочь нашего офицера, убитого на службе. Я считаю, что мы обязаны взять ее теперь к себе, а потом увидим.
– Увидим, – сказала Наталья Дмитриевна и отправилась в квартиру умершей. Она возвратилась оттуда вся в слезах.
– Не могу видеть девочку, – говорила она своему мужу. – Она ничего не понимает, играет в игрушки, смеется, а мать ее лежит в гробу. В квартире двери настежь, всякий, кто хочет, входит поглядеть на покойницу, прислуга слоняется по дому, в столовой около гроба толпится всякий народ, расспрашивает о подробностях няньку, а нянька тараторит на все стороны со всеми приходящими, рассказывает о смерти Богуславовой и указывает на сиротку, ее дочь. Мне было жутко смотреть на это.
– Обыкновенное дело, – сказал полковник, – всегда так бывает, когда умирают без близких.
– А нянька Анюты препротивная! Желая произвести впечатление на публику, она хватает Анюту за руки и восклицает: «Плачь! Да плачь же! Ты сирота!» А девочка ничего не понимает и улыбается. Даже сердце щемит глядеть на все это. Да, ты прав. Я возьму ее к себе, пока родные ее не выпишут. Потеснимся.
– Вот и хорошо, – кивнул полковник.
Богуславову похоронили, а после похорон полковник сам принес Анюту на руках в свой дом, прямо в детскую. Жена полковника была женщина слабого характера, и потому не обошлось без споров. Няньки детей роптали. Им пришлось потесниться, чтобы поместить Анюту с ее нянькой, которая из себя выходила по всякому случаю и тотчас перебранилась со всеми. Через неделю, вследствие постоянных ссор, она, к великому удовольствию Завадской, отказалась от должности, и бедная Анюта осталась совсем одна в чужом доме, в чужой семье, с совершенно незнакомыми ей людьми. Анюта горько плакала и звала неустанно маму и няню. Даже ночью она просыпалась и жалобно кричала, повторяя: «Мама!.. няня!.. мама!.. няня!..»
Завадская всячески утешала ребенка, ночей не спала, нянчилась с ней, и, наконец, ей удалось через несколько дней приучить Анюту к себе. Анюта ходила за ней тенью, держась обеими ручонками за ее платье.
Наталья Дмитриевна Завадская с трудом узнала адрес Богуславова, деда Анюты, и написала ему письмо, уведомляя его о том, что девочка потеряла отца и мать, и просила его распорядиться ее судьбой. Долгое время Завадские не получали никакого ответа. Потом пришло письмо, но не от деда, а от его второй жены, мачехи отца Анюты. Она писала, что ее муж уже год как умер, что она осталась вдовой, имеет своих детей, что Анюта ей, в сущности, нисколько не родня, и дала адреса дядей и теток Сергея Богуславова, советуя обратиться к ним как к единственным родственникам девочки, оставшейся сиротой. Это был список лиц, во главе которого стояло имя генерала Петра Петровича Богуславова, родного дяди отца Анюты, жившего всегда в Петербурге, женатого на очень богатой женщине и имевшего двух дочерей и сына. За ним она указывала на богатого старика Андрея Петровича Богуславова, сенатора, имевшего одну замужнюю дочь. Затем шли имена трех сестер, старых девиц Богуславовых, родных теток отца Анюты, живших всегда в Москве в собственном доме. Последним она назвала имя очень старого, знатного и богатого прадеда Анюты по прямой линии, то есть отца матери Сергея. Он жил в Петербурге. Престарелый восьмидесятилетний князь Дубровин имел несчастье пережить и дочь, и сына своего и остался с внуком – единственной надеждой своей старости. Он воспитал его заботливо и уже определил на службу. Ко всем этим лицам полковник написал письма, уведомляя их о беспомощном положении Анюты, не имевшей никакого состояния. Он просил их прислать за ней доверенное лицо, оговариваясь, что девочка ему не в тягость, что он будет терпеливо ожидать, пока за ней пришлют родные, и что до тех пор она не будет нуждаться ни в уходе, ни в участии. Долго ждал полковник ответа. Первым ответил родной прадед Анюты, князь Дубровин. После благодарностей за то, что полковник приютил сиротку, он писал: