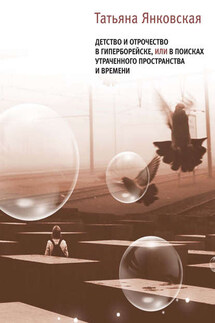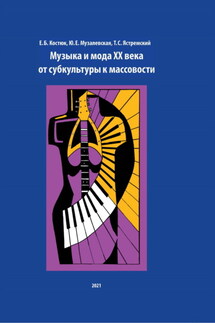Читать онлайн Татьяна Янковская - Когда душа любила душу. Воспоминания о барде Кате Яровой
© Т. В. Янковская (Tatyana Yamrom), 2019
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2019
Вступление
Мне довелось познакомиться с Катей Яровой[1] и общаться с ней в последние три года её жизни. Катя открыла мне целый мир. Она открыла мне меня. Когда Катя была ещё жива, я понимала, что, хотя мы с ней очень разные, у меня ни с кем не было такого духовного родства, как с ней. Наши вкусы в поэзии и литературе были близки. Была и какая-то мистическая связь (о своих мистических связях с Катей говорили мне и другие).
Наверно, есть какой-то высший смысл в нашей встрече. Я начала писать, когда встретила её, о ней – и продолжала писать и о ней, и своё, когда её не стало. Катин племянник Миша Новахов сказал как-то, что один талант разбудил другой, и теперь, когда её нет, а я пишу, она как будто продолжает жить. Отношения с Катей – больше, чем дружба, они не описываются в обычных «земных» терминах. Этот свет, исходивший от неё… Когда у меня появились первые планы написать о Кате, возникло и название. Запись 26 февраля 1993 года: «Катя (моё знакомство с Катей Яровой и её стихами). Возможное название “Когда душа любила душу”». Обычно, когда я пишу о ней, я выбираю её слова для названия статей[2], но эта строка Вероники Долиной точнее всего передаёт то, что я чувствовала тогда и сейчас.
О Кате я могла бы говорить сутками, и сутками можно рыться в моих архивах и памяти, чтобы рассказать как о её жизни среди нас, так и о её жизни, продолжившейся без её физического присутствия, потому что она осталась живой в сердцах всех, кто принял участие в её судьбе, кто знал и любил её песни. Я хочу рассказать хотя бы малую толику того, что знаю. В 94-м появился план воспоминаний. Запись 28 декабря 1994 года: «Зачем я это пишу? Причин много, иначе я не стала бы этим заниматься. Во-первых, писать о Кате – удовольствие. Во-вторых, у неё было много друзей и любящая семья, и я думаю, что это важно для них. Кроме того – Катя смеялась, когда я это говорила, – у меня “комплекс Шуры Балаганова”: я люблю, чтоб всё было “по справедливости”. Я считаю, что Катино творчество до сих пор не оценено по достоинству, и пытаюсь это исправить. Я уверена, что с годами это изменится, что появятся исследователи, которые будут бережно собирать всё, что связано с жизнью и творчеством Кати Яровой. У них будет большое преимущество по сравнению с нами – перспектива, но что-то будет невосполнимо утеряно, и мы – очевидцы, друзья, современники – можем им в этом помочь. Наконец, я думаю, Катя хотела, чтобы я это делала. “Так что я вам, Танечка, всё это завещаю”, – сказала она мне перед своим последним путешествием, из Америки в Сибирь. Тогда, в сентябре 1992 года, я не хотела ни говорить об этом, ни слышать. Потом, вспоминая, пыталась понять и жалела, что не спросила. Ведь очевидно, что, раз у неё есть прямые наследники, говоря “завещаю”, она имела в виду что-то другое». Запись 20 марта 2000 года: «Наверно, она знала, что за мной не заржавеет. Память о ней не должна покрыться ржавчиной, порасти быльём. Поэтому – книга».
Её творческий век оказался недолог, и это, я думаю, одна из главных причин Катиной малой известности, хотя она много выступала и этим зарабатывала на жизнь, а лучшее из написанного ею можно причислить к шедеврам русской поэзии и авторской песни. При развитии нынешних коммуникационных технологий стало гораздо легче приобрести быструю популярность, но Катя не дожила до этого бума. Возможно, отчасти так сложилось и потому, что у неё не было «широкой известности в узких кругах». Многие отмечали, что, когда Бродского просили назвать значительных поэтов-современников, он обычно называл своих друзей из ленинградской поэтической тусовки. Катя не тусовалась, не суетилась, не «светилась» целенаправленно, не «пробивала» свои стихи, не принадлежала ни к каким литературным группировкам, школам и направлениям. Хотя говорила мне, что иронисты, например, признали бы её своей. Но всё это так или иначе ограничивало бы её, а Катя была внутренне абсолютно свободным человеком. Искусство – это когда художник старается как можно полнее и честнее выразить себя, раскрыть свой внутренний мир и передать своё осмысление мира внешнего. Не-искусство – когда он руководствуется тем, что будет хорошо продаваться (неважно, за деньги или за одобрение своей тусовки).
Так вышло, что Катю никто не проталкивал. Мало кто способен благословить, не сходя в гроб. Что это – боязнь конкуренции? Клановость? Может быть, дело в том, что песни Кати Яровой очень своеобразны, она ни на кого не похожа, а редакторы, издатели и критики чаще всего предпочитают то, что привычно, именитые же авторы – похожих на них, но более слабых молодых, и не нашлось старика Державина, который не только заметил бы её, но ещё и захотел бы благословить во всеуслышание. Впрочем, это не совсем так: Катю, когда она была ещё студенткой Литературного института, заметила и оценила Юнна Мориц, её уникальный талант отмечали и преподаватели Литинститута. Но расцвет её творчества совпал с перестройкой, когда, как писала мне Катя, «народ стал вплотную заниматься добычей денег и всяческих мат. благ, и интерес к концертам, особенно бардов, почти пропал… Но я считаю, что это временный и совершенно естественный процесс. А я являюсь всего лишь жертвой этого естественного процесса». Может быть, проявилось и типичное отношение многих профессиональных литераторов, не воспринимающих авторскую песню всерьёз. Это омрачило последние годы жизни Высоцкого, несмотря на всенародную любовь к его песням, а присуждение Нобелевской премии по литературе Бобу Дилану и премии «Поэт» Юлию Киму вызвало осуждение и неприятие более активное, чем в случае других спорных решений. И ещё одна – увы, грустная – причина: нет пророков в своём отечестве.
На самом деле как поэту Кате повезло, что она не была с ранних лет членом литературных студий, обществ, кружков поэтов, обсуждавших стихи друг друга, и тем самым избежала влияний и не утратила независимости мышления. Её отклик на происходящее был собственный, не на потребу социальному запросу властей или эстетическим и идеологическим требованиям своей тусовки. Свидетельство тому – неожиданные для всех публичные похороны своих политических песен, которые она устроила в АПН в разгар перестройки. Даже по́зднее поступление в Литературный институт сыграло положительную роль, потому что именно юные, неокрепшие мозги легче поддаются «стрижке под одну гребёнку». Привычка препарировать стихи, вместо того чтобы воспринимать их непосредственно, нутром, мешает автору создавать, а аудитории наслаждаться тем, что не санкционировано «высшими инстанциями» – друзьями-поэтами, руководителем и членами семинара, известными критиками. Катя начала всерьёз писать, будучи вполне зрелым человеком, поэтому, хотя многие её песни раннего периода ещё не достигли мастерства, отличавшего творчество последних лет, они свидетельствуют о зрелости ума и сердца и о нравственной зрелости.
Нет пророков в своём отечестве и в чисто бытовом смысле. Редактор Р. М., которая знала Катю ещё по Москве (она дружила с сестрой Никиты Якубовича, с которым Катя тогда жила), говорила мне, что, хотя она слышала Катины песни в то время, не вполне осознавала её масштаб, потому что «трудно всерьёз воспринимать творчество человека, когда видишь его пробегающим мимо тебя в халатике из ванной». Об этом же говорила Катина подруга Оля Гусинская: «Большое видится на расстоянии»[3]. Она рассказывала нам с Сашей Эйдлиным, который приезжал ко мне в августе 2015 года, чтобы записать на видео разговор с Олей: «Катя писала песни, но это было в порядке вещей. Мы все тогда писали песни». Катина сестра Лена передавала слова их бабушки – пусть бы Катя не писала своих песен, а была бы здорова и счастлива. В отличие от тех, кто давно и близко знал Катю, я сразу увидела её «на расстоянии». Конечно, и для меня было так же важно, чтобы она была здорова, но если бы не её песни, я бы с ней просто никогда не познакомилась. Изначальная точка отсчёта у меня была другая. Для меня Катя Яровая – и человек, и явление.
Моя память о ней вмещает десятки людей, которые появились в моей жизни благодаря ей. Катя для меня существует в непрерывном общении с этими людьми, как при её жизни, так и после. Они – неотъемлемая часть пространства, в котором она жила и пела. По определению M. М. Бахтина, «всякая лирика жива только доверием к возможной хоровой поддержке», она существует «только в тёплой атмосфере, в атмосфере… принципиального звукового неодиночества». Это тем более справедливо по отношению к бардовской песне. Разговор о Кате неотделим от рассказа о тех, кто создавал эту атмосферу вокруг неё. Поскольку я пишу воспоминания, а не биографию или роман, повествование разворачивается в соответствии со временем, которое занимала в моей жизни Катя и всё, что связано с продвижением её творчества. В основном я опираюсь на свои записи и переписку тех лет, но приходится полагаться и на память, которая может порой подвести.
Катя дважды приезжала в Америку, в 1990-м и в 1992-м году, провела здесь в общей сложности полтора года. Именно здесь ей поставили диагноз: первый раз – рак груди, второй раз обнаружили обширные метастазы. Когда химиотерапия не помогла, она уехала в сентябре 92-го года в Новосибирск, где её лечили нетрадиционными методами, но не помогли и они. Двенадцатого декабря её не стало.
Знакомство
Летом 1990 года наша подруга София Лубенская, известный лингвист, доцент кафедры славистики Университета штата Нью-Йорк в Олбани, принесла нам послушать кассету с песнями барда из Москвы Кати Яровой. «Она владеет словом, это интересно». Соня сказала, что у Яровой рак груди, она перенесла операцию, прошла курс лечения, начала выступать с концертами и заинтересована в заработке. У нас были гости. Крутилась плёнка, продолжался общий разговор, и до меня долетали только отдельные удачные фразы из песен. Например, «Жить в рабстве так же сладко, как спать ребёнку в мокрых пелёнках: хоть мокро и темно, но тепло и по-своему уютно…» Одна из гостей, молодая мама Ира Р., возмутилась: «Неправда, ребёнку неприятно лежать в мокрых пелёнках!» Остальные заспорили, защищая удачный поэтический образ. Но в основном песни прошли тогда мимо ушей. А через несколько дней был праздник – День труда, и мы с мужем и дочкой на три дня отправились с палаткой на северо-восток штата Нью-Йорк.
Выезжаем вечером. Еле различимые в темноте Адирондакские горы близко подступают к дороге. Боря за рулём, крутится плёнка, я дремлю под музыку и шуршание шин. Вдруг что-то вывело меня из дрёмы, и тут же Боря попросил перемотать плёнку назад. И зазвучало, отпечатываясь в мозгу каждым словом, каждой нотой, каждым звуком удивительного голоса: «Память, словно кровь из вены, хлещет – не остановить…». Это была первая песня из цикла «Прощание». И сразу после неё – «Посвящается Никите Якубовичу», и звучит третья песня из цикла: «Настанет день – и в воздухе растает твоё лицо…» Так я начала по-настоящему слушать Катю. Три дня колесили мы по Адирондакскому заповеднику. Ходили по лесам и горам, купались в озёрах – Таккер, Колби, Саранак. Горы – синие по утрам и сиреневые на закате, в долинах маленькие деревеньки с церквями и пивными барами, огромные рыжие коровы с длинной вьющейся шерстью. И все три дня непрерывно – Катин голос. Кончается плёнка – начинаем сначала, так что Наташа, в то время студентка университета Кларка, даже взмолилась: когда же мы будем слушать кассеты, которые она взяла с собой? Спрашиваем – разве ей не нравится Катя? Её комментарий: нравится, но непривычно высокий голос, слишком грустные песни. Объясняю, что грустно – совсем не плохо. Напоминаю пушкинское «мне грустно и легко, печаль моя светла». Позднее узнала, как эта строчка дорога Кате.